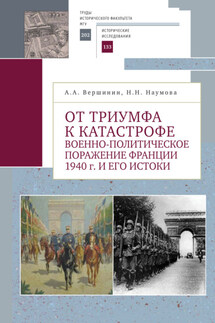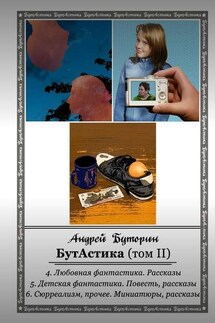От триумфа к катастрофе. Военно-политическое поражение Франции 1940 г. и его истоки - страница 33
Глава II
Кризис французской стратегии в начале 1930-х гг
В начале 1930-х гг. французская политика безопасности переживала глубокий кризис. Курс на сближение с Германией, взятый министром иностранных дел Брианом, себя фактически исчерпал. В полной мере проявились те его недостатки, которые были порождены противоречиями международной обстановки середины 1920-х гг., однако определенное время скрывались энтузиазмом и надеждами «эры Локарно». «С началом Локарнской политики, – пишут об этом Ж. Дуаз и М. Вайс, – безопасность Франции, как казалось, была максимально обеспечена. Но она же породила мощную динамику, которая, напротив, вела к утрате гарантий безопасности»[204]. В 1925 г. при подписании Локарнских соглашений Бриану пришлось отдать дальнейшую судьбу Франции в чужие руки, в надежности которых не было уверенности.
Зафиксированные в Локарно британские обязательства в отношении нерушимости франко-германской границы, получение которых было важной целью Парижа, носили исключительно декларативный характер. Их действенность определялась готовностью Лондона реально вмешиваться в европейские дела в случае возникновения кризисной ситуации, однако ни один британский кабинет, находившийся у власти в межвоенные годы, подобного желания не демонстрировал [205]. Французская система союзов с восточноевропейскими государствами изначально имела ограниченную эффективность как инструмент сдерживания германского реваншизма. При подписании франко-польской военной конвенции в 1921 г. политики и командование вооруженных сил в лице Фоша высказывали сомнения в перспективах взаимодействия с молодым государством, имеющим сложные отношения со всеми своими соседями[206]. Решения, принятые в Локарно, привели к пересмотру и этих договоренностей. После 1925 г. любая взаимная помощь, которую могли оказать друг другу Франция и ее восточноевропейские союзники, должна была осуществляться в рамках устава Лиги Наций. По этому принципу действовали франко-чехословацкий и франко-румынский договоры (1924 и 1926 гг.), а также соглашение между Францией и Королевством сербов, хорватов и словенцев (1927 г.). Во второй половине 1920-х гг. система «тыловых союзов» фактически существовала лишь на бумаге.
В итоге, безопасность Франции зависела от того, удастся ли Парижу, играя на равных, нормализовать отношения со вчерашним врагом, намерения которого оставались сомнительными, а совокупная мощь по-прежнему сильно превосходила французскую. Р. Арон, так писал о попытках франко-германской нормализации в 1920-е гг.: «Трезвый расчет показывал, что для Франции лучший способ сохранить и мир, и свое положение – это заставить Германию соблюдать статьи [Версальского – авт.] договора, касающиеся разоружения, или по меньшей мере добиться демилитаризации Рейнской области. Пацифизм должен был продиктовать противодействие, но психологически понятно, что он подсказал удовлетворить требования внушавшего опасения соседа. Франция сделала полуосознанную попытку задобрить Германию; к несчастью, она имела дело уже с Германией, которую едва ли можно было умилостивить иначе, как согласившись на рабское подчинение»