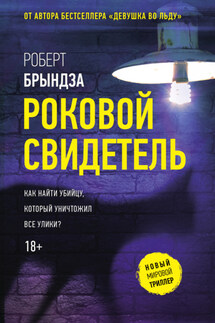«От земли до высокой звезды». Мифопоэтика Арсения Тарковского - страница 2
(1,78)
Но ощущение мировой гармонии для Тарковского менее всего сладостная и легко достижимая идиллия душевного бытия. Это результат трудного, порой мучительного акта жизнетворчества, который напрямую отождествляется с жертвой Христовой:
(1, 197)
Подчёркнутые строки – прямая евангельская реминисценция, эксплицирующая «голгофский» сюжет библейской истории: «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: Других спасал, а Себя Самого не может спасти\» (Мф., 27: 39–42). Образ «камня на пути», вынесенный в название «христологического» текста Тарковского, восходит к двум библейским источникам: Псалтири («Камень, который отвергли строители, соделался главою угла» – Пс., 117: 22) и Книге пророка Исайи,[8] в которой сказано о «камне преткновения и скале соблазна для обоих домов Израиля» (Ис., 8: 14–15) и о «камне испытанном, краеугольном, драгоценном, крепко утверждённом» Богом «в основание на Сионе» (Ис., 28: 16). В тарковском «камне на пути», символизирующем крестный путь «нового бога» – поэта, актуализированы обе смысловые ипостаси центрального христианского символа: камень краеугольный, на котором поэт возводит свой храм и свой мир, и камень преткновения, о который он может разбиться и погибнуть. Вожделенная «музыка сфер» требует от художника полного и жертвенного «преображенья с головы до пят в плоть стихотворенья» (1, 239), но далеко не всегда поддаётся «транспонированию» в Слово. Эта ситуация невоплощённого или недовоплощённого Логоса ставит поэта на грань жизни и смерти. Молчание, немота, утрата дара речи в поэтическом мире Тарковского есть потеря творящего дара человеческой личности и, стало быть, синоним её экзистенциальной смерти.
(1,78–79)
В стихах Тарковского «вступают в спор природа и словарь и слово силится отвлечься от явлений» (1, 286), но так, чтобы не стать «оболочкой», «плёнкой», «звуком пустым» (1, 71), чтобы объекты природы стали субъектами культуры и, слившись с культурными символами, обрели голос, язык, мелодию:
(1,65)
«Адамова тайна» – это мистическое таинство наречения имён, которые даёт «всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт., 2: 20) Адам, ещё не вкусивший запретный плод и не изгнанный из Эдемского сада. Даруя имена животным и птицам в присутствии Творца, первый человек становится соучастником сотворения мира, носителем Слова-Логоса и