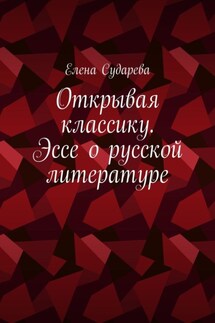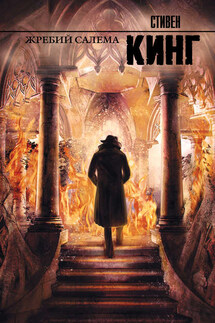Открывая классику. Эссе о русской литературе - страница 8
Символичен диалог часовщика-самоучки Кулигина и Кудряша, молодого конторщика богатого купца Дикого. В общественном саду на высоком берегу Волги происходит их разговор – так начинается драма «Гроза».
Всей душой восхищается Кулигин красотой окружающего мира: «Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш!.. пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу». На что Кудряш отвечает: «Нешто!» – Не успокаивается Кулигин: «Восторг! А ты „нешто!“ Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита».
Духовный барьер, разделяющий многих героев пьесы Островского, обозначается уже в этом первом кратком диалоге. С одной стороны – восторг перед красотой, дарованной человеку в этом мире, а с другой – полное равнодушие к ней или полное её непонимание.
А ведь драма «Гроза» именно об этом: о красоте жизни, чувства человека – и о полной глухоте к ним. И как подтверждение последних слов Кулигина явление второе в пьесе открывается безобразной руганью купца Дикого, который измывается над своим племянником Борисом.
Точно и жестко характеризует Кудряш своего хозяина и его отношение к людям: «Ему везде место (ругаться – Е.С.). Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьевич, вот он на нем и ездит».
На том же самом месте, на высоком берегу Волги, где ещё недавно изливал свои восторги перед красотой мира часовщик-самоучка Кулигин, разыгрывается сцена унижения ближнего.
Дикой чувствует себя властителем всего города, всей Вселенной. Ему никто не указ – что хочу, то и ворочу – жизненное кредо богатого купца. И невольно возникает мысль, что неведом Дикому даже страх Божий, не то что уважение к Его творению.
Ещё в первом явлении драмы Островского в разговоре персонажей определяются два центра силы в приволжском городе Калинове – Дикой и Кабаниха (богатая купчиха, вдова). Эти два «авторитета» подавляют всех и вся в художественном мире «Грозы» и вершат надо всеми свой собственный СУД.
Поражает современность этих двух персонажей. Для них только деньги и собственная власть мерило всей жизни. Оттого раскинула пышные кроны полная разнузданность желаний и поступков – никто не указ!
Мещанин Шапкин предваряет появление на сцене Дикого словами: «Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет… Хороша тоже и Кабаниха». «Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!» – вторит Шапкину Кудряш.
В третьем явлении драмы Островского читатель-зритель узнает, что где-то там в глубине, за сценой совершается некое духовное действо, до времени скрытое от глаз. Драматург словно раздвигает границы сцены, углубляя перспективу действия: все разговоры, и восторги одних и ругань других, происходят на берегу Волги в то самое время, как в церкви города совершается вечерняя служба. «Что это? Никак народ от вечерни тронулся?» – спрашивает Кулигин. И далее следует ремарка автора: «Проходят несколько лиц в глубине сцены». Раздаётся голос Кудряша: «Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то!».
Именно в третьем явлении уже пунктирно намечается глубинный исток грядущих трагических событий – оскудение веры, христианской любви, сострадания к человеку.
Неслучайно богослужение происходит где-то там далеко и будто никак не связано с разговорами, мыслями, поведением персонажей – участников действия, разворачивающегося на высоком берегу Волги.