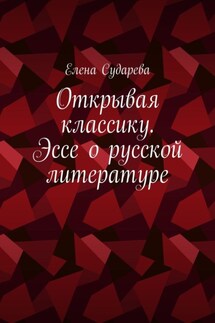Читать онлайн Елена Сударева - Открывая классику. Эссе о русской литературе
© Елена Сударева, 2021
ISBN 978-5-4498-4451-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
В КРУГЕ СВЕТА. Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка»
«Я приехала просить милости, а не правосудия».
А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»
Тревожно сейчас на душе. И словно со всех сторон тянутся к тебе щупальца этой тревоги. Чувствуешь, как сгустки общего беспокойства о судьбе каждого из нас, о судьбе России, о судьбах всего мира, словно темными облаками, затягивают ясный небосвод. И только мгновеньями вновь начинаешь ощущать красоту мира – пробьётся вдруг сквозь тёмную пелену яркий луч света и проникнет в самое твоё сердце.
Есть дивная повесть Александра Сергеевича Пушкина, законченная им за три месяца до трагической кончины, – «Капитанская дочка» (1836).
Называют эту повесть ещё «духовным завещанием» поэта. И точно, недаром! Погрузившись в её таинственный текст, оказываешься ты словно в круге Света, со всех сторон объятого тьмой, но чудным образом её побеждающем.
«Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло…».
Вот так нежданно-негаданно, как в этой вдруг разразившейся снежной буре в степи, в которую попадает Петр Гринев по дороге в Оренбург, погружается в повести Пушкина в кровавый кошмар пугачевского бунта и тихая размеренная жизнь русской провинции и больших городов. Всё безжалостно затягивает в свою воронку пугачевский смерч.
Однако странным образом именно в этом кружащемся вихре жестокости, как свеча во тьме, вдруг загорается в душах почти всех главных героев повести «Капитанская дочка» самая подлинная человечность и сострадание. И совершенно неважным оказывается, к какому из двух враждующих лагерей принадлежит тот или иной герой.
Пушкин ломает все границы в этом новом страшном мире, разделяющие людей, и именно в этом новом мире его герои словно соревнуются друг с другом в великодушии и смелости, о существовании которых в себе, быть может, и не подозревали в своей прежней обыденной жизни.
Еще до всех трагических событий автор сводит, чуть не физически сталкивает «впотьмах» двух представителей этих враждующих миров – главаря бунтовщиков Емельяна Пугачева и дворянского сына, молодого царского офицера Петра Гринева, едущего в Оренбург, а затем к месту своей первой службы в Белогорскую крепость, которую Пугачев в скором времени возьмёт жестоким приступом и зальёт кровью.
В дикой степи, в буран происходит их знаменательная встреча: «…я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели… Вдруг увидел я что-то черное… Я приказал ехать на незнакомый предмет» – так встречаются Вожатый (Пугачев) с Петрушей Гриневым.
Вот с этого самого мига возникает между ними ничем не объяснимое, таинственное человеческое притяжение, разорвать которое не сможет даже сама позорная казнь Пугачева. Пугачев «узнал его (Гринева – Е.С.) в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу». Оставаясь на двух разных берегах враждующего людского моря, умудряются эти два героя в повести Пушкина сохранить между собой необычайную духовную близость, сочувствие и понимание.
«Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной!» – так размышлял Петр Гринев, когда он вместе с Пугачевым направлялся в Белогорскую крепость. Именно там находилась в заточении его возлюбленная – Марья Ивановна Миронова, дочь убитого пугачевскими бунтовщиками капитана Миронова, – в плену у Швабрина, офицера, который нарушил свою воинскую присягу, перешел на службу к Пугачеву и был назначен им новым комендантом крепости, а теперь принуждал беззащитную сироту выйти за него замуж.
В странный клубок противоречий попадает в мире Пушкина его главный герой, Петр Гринев, – в самый решающий миг своей жизни обращается он за помощью к «злодею», Пугачеву, не поступившись ни одним из своих принципов и рассказав в итоге «извергу» всю правду: «Слушай, – продолжал я, видя его доброе расположение. – Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу… Но Бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедною сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души…
Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! – сказал он. – Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!»
Не только Петру Гриневу, но и самому читателю трудно поверить, что не сновидение всё это, что не во сне он читает чудесную повесть Пушкина, которую действительно всю слово в слово написал сам ПОЭТ. Не могут не поражать современного читателя своей какой-то НАДМИРНОЙ человечностью духовные проявления героев Пушкина. А ведь действие повести происходит даже не в начале ХIХ века, а отнесено автором в семидесятые годы XVIII столетия, в один из самых жестоких периодов русской истории.
И не один Петр Гринев, выросший словно провинциальный недоросль, поднимается на столь недосягаемую высоту честности, искренности, поражающей самого Пугачева, верности и сострадания.
А что же сам «злодей», Пугачев? Сам он, мятежник и «кровопийца», невероятным образом милует, спасает, одаривает и устраивает счастье дворянского сына.
А разве не совершает свой духовный подвиг Марья Ивановна, капитанская дочка? Робкая и пугливая девушка бесстрашно бросается на защиту оклеветанного жениха и добивается встречи с самой императрицей Екатериной II и объяснением всех происшедших обстоятельств спасает Гринева от позора и ссылки.
А Савельич, дядька Гринева и верный крепостной слуга, разве он не готов добровольно пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти от смерти своего Петрушу, молодого барина? – «Меня притащили под виселицу. „Не бось, не бось“, – повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: „Постойте, окаянные! погодите!..“. Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. „Отец родной! – говорил бедный дядька. – Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!“. Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили».
А Василиса Егоровна и Иван Кузмич, родители Маши Мироновой, бесстрашно принимающие смерть от рук мятежников? Длинный список героев повести Пушкина, открывших в себе неведомые высоты духа, можно ещё продолжить…
Да! глубоко стоит задуматься современному читателю, зачем оставил нам, своим потомкам, эту «нехитрую повесть» великий русский поэт и почему с неизменным удивлением каждый раз открываем мы для себя этот вроде бы нехитрый рассказ о нехитрых, а подчас и наивных людях, а в итоге открываем для себя их бессмертное ЖИТИЕ.
УМЯГЧЕНИЕ СЕРДЕЦ. «Повести Белкина» Александра Сергеевича Пушкина
С особым чувством открываешь в наши немилостивые дни первое прозаическое произведение Александра Сергеевича Пушкина – «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1830), произведение загадочное, но которое будто и не требует разгадки.
Пять коротких повестей – «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка», услышанных вымышленным автором Иваном Петровичем Белкиным от разных других вымышленных рассказчиков, «народных сказителей», и записанных им, – «случайно» попадают в руки к издателю А. С. Пушкину.
Но зачем потребовалась поэту такая многократная удалённость от собственного слова? Зачем построил он такую глубокую линию обороны своего писательского «я»? Или текст, вышедший из-под его пера, нуждался в совершенно особом представлении читателю? Слово Пушкина, кажется, проходит через несколько дополнительных фильтров-голосов многочисленных рассказчиков о произошедшем событии, чтобы соединиться в единую новую партитуру в голосе мифического автора Ивана Петровича Белкина, «кроткого и честного» молодого дворянина. Именно написанная им рукопись в итоге и ляжет на стол к Издателю, которой тот придаст окончательную огранку – подчас утонченно ироничную, подчас добродушно философскую.
Пушкин не просто имитирует превращение устного слова в литературный текст, нет, он действительно насыщает свое творение благодатью народного разума. Этот первый прозаический опыт Пушкина рождает поистине «смиренную» прозу, кроткую прозу, которая, словно в согревающий кокон, погружена в теплую, младенческую тысячелетнюю мудрость народа.
В письме к П. А. Плетневу 15 августа 1831 года поэт пишет: «…Посылаю тебе сказки моего друга Ив. П. Белкина… P.S. Эпиграфы печатать перед самым началом сказки, а заглавия сказок на особенном листе…». Есть в письме среди замечаний и такие: «1) Как можно более оставлять белых мест, и как можно шире расставлять строки. 2) На странице помещать не более 18-ти строк».
Сколь символично это указание автора! Ведь краткость пушкинской прозы оставляет огромное свободное пространство – те самые «белые места», которые заполняются незримой, но такой реальной теплотой и любовью к земному, грешному человеку с его страстями, желаниями, надеждами и разочарованиями. Думается, никто, кроме самого Творца, не мог бы испытывать большее милосердие и сострадание к своему творению. Именно это духовное пространство сострадательной христианской любви и заполняет «белые места» первой прозы Пушкина.
Именно в нем, возможно, и кроется загадка «сказочной» природы «Повестей Белкина», о которой с глухим осуждением говорил критик В. Г. Белинский.
При всей сюжетной разности повестей есть в них явное скрепляющее начало. Так, в художественном мире Белкина никогда не сбываются самые худшие ожидания и предвидения его героев и самого читателя. Не у каждой истории бывает счастливый конец, но ее герои обязательно избегнут той пропасти, в которую, казалось бы, неминуемо должны были упасть.
Пушкин щадит своих героев и, несмотря на самые трагические обстоятельства, старается окружить их хотя бы сочувствием.
Открывает сборник повесть «Выстрел». Ее герои счастливо минуют две неотвратимые кровавые развязки, которые будто и обойти никак невозможно. Вначале главный герой, Сильвио, отставной гусар, искусный стрелок и бесстрашный дуэлянт, не вызывает на дуэль оскорбившего его офицера, недавно прибывшего в часть: «Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым… Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался». А затем читатель узнает, что Сильвио не стрелял и в оскорбившего его графа.
На редкость доверительные отношения возникают между рассказчиком этой истории – подполковником И. Л. П. (во время встречи с Сильвио – ещё молодым офицером) и отставным гусаром, ожидающим свой отложенный выстрел: «Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию».