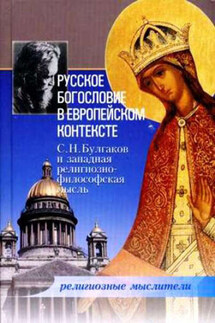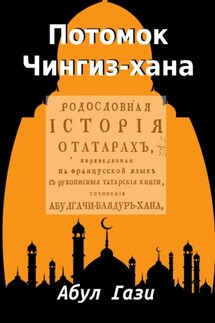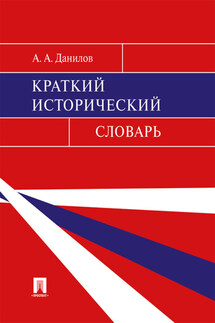Читать онлайн Сборник статей - Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования
Предисловие
Эта книга представляет результаты работы двух исследовательских проектов, реализованных в Центре устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2001–2003 годах. Первый проект назывался «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» (руководитель – к.и.н. Е. И. Кэмпбелл). Второй, его продолжение, – «Блокада Ленинграда в индивидуальной и коллективной памяти жителей города» (руководитель – к.и.н. В. В. Календарова). «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» – проект в рамках программы создания учебного центра подготовки специалистов в области устной истории, осуществлявшейся в Европейском университете в 2001–2002 годах. Благодаря этой программе в Центре устной истории сформировалась группа исследователей, сотрудников и аспирантов университета. В ходе двухлетней работы участниками проекта была собрана коллекция интервью с людьми, пережившими блокаду Ленинграда 1941–1944 годов, а также с представителями послевоенного поколения, чьи родители находились в городе во время блокады.
Результаты этих двух проектов и легли в основу настоящего издания. Представленные здесь статьи разных авторов объединяет и одновременно отличает их от огромного количества исследований, посвященных блокаде Ленинграда, тот факт, что в центре внимания здесь находятся не столько реальные события рассматриваемой эпохи, сколько отражение этих событий в сознании современников и их потомков. Тот образ или те образы блокады, которые оказались запечатленными в самых разных формах – в исторической литературе, официальных изданиях, на страницах ленинградской печати послевоенных десятилетий, в архитектурных памятниках, и наконец, в памяти простых ленинградцев, переживших войну и блокаду.
Блокада получила отражение во многих дневниках и мемуарах. Безусловно, не является чем-то принципиально новым и запись устных рассказов очевидцев и участников блокады: достаточно вспомнить здесь выдающийся памятник отечественной документалистики «Блокадную книгу» Д. Гранина и А. Адамовича, не говоря уже о множестве любительских записей, сделанных в разные годы участниками школьных поисковых отрядов, краеведческих кружков, различных общественных объединений и движений. Другое дело, что профессиональные историки не так уж часто обращались к этим документам как к историческим источникам – особенно если речь шла о воспоминаниях рядовых ленинградцев, не принимавших значимых для судеб города решений. С одной стороны, их рассказы зачастую не представляли существенного интереса для исследователей, изучавших блокаду Ленинграда с точки зрения «большой истории» – хода Великой Отечественной войны, политической и военной истории страны в середине XX века. Большинство фактов, упоминавшихся в этих свидетельствах и относящихся к деятельности различных советских и партийных организаций, армейских формирований, промышленных предприятий, учреждений науки и культуры в блокадном городе, все равно нуждалось в проверке по документальным источникам и подчас страдало значительными неточностями. С другой стороны, воспоминания жителей блокадного города, особенно устные рассказы, несли и несут в себе огромный эмоциональный заряд, правду личного опыта свидетеля и участника исторических событий. Историку, особенно родившемуся уже после войны, психологически сложно подходить к этим рассказам с той же меркой, с какой он подходит к любому другому свидетельству: ведь это неизбежно означает подвергать оценке, определять степень достоверности, соизмерять с какими-то другими данными, возможно, даже оспаривать. Конечно, свою роль здесь сыграли и известные идеологические ограничения советского периода, и просто те этические рамки, которые устанавливает любое цивилизованное общество при обсуждении вопросов жизни и смерти в предельно экстремальной ситуации. Однако думается, что все же самой серьезной преградой, стоящей на пути анализа воспоминаний людей, переживших блокаду, является особое место, отводимое этим рассказам в общественном сознании эпохи, не утратившей еще эмоциональную связь с событиями военных лет. Воспоминания блокадников, как и других рядовых участников войны, обладают в глазах современников непререкаемым нравственным авторитетом и потому занимают в сознании общества особое пространство, отличное и даже противоположное по духу профессиональной историографии.
Заметим, что воспоминания блокадников лишь высвечивают эту проблему с особой остротой – их критический разбор может особенно болезненно восприниматься ленинградцами старшего поколения. Кроме того, эта проблема неизбежно возникает, когда речь заходит о том, каким образом следует историку, да и просто читателю, подходить к воспоминаниям людей, чья эпоха еще не канула безвозвратно в прошлое.
Как известно, устные рассказы очевидцев использовались историками еще со времен Геродота. Однако, по мере того как ученые занятия историей превращались в науку, то есть в особую область институционализированного знания, вполне доступного лишь специально подготовленным профессионалам, рассказы людей о прошлом, передающиеся в устной традиции, вызывали все меньший интерес и доверие исследователей. Становление исторической профессии во второй половине XIX – первых десятилетиях XX века было теснейшим образом связано с формированием позитивистской парадигмы в историографии, как известно, ставившей задачу объяснить прошлое исходя из эмпирических фактов, воссоздаваемых путем изучения и критики документальных источников. Напомним, что в соответствии с этой задачей все источники располагались в иерархической последовательности по степени их ценности для исследователя. Источники личного происхождения при этом оказывались на нижних ступенях такой иерархии за неизбежно присущий им субъективизм. Дневники всегда ценились выше мемуаров (поскольку к субъективизму автора в мемуарах добавляются еще искажения, внесенные позднейшей переоценкой и переосмыслением событий), а устные воспоминания не рассматривались вовсе – очевидно, как не являющиеся настоящими свидетельствами о прошлом. В такой перспективе профессиональная историческая наука представлялась явлением, в корне отличным от бытующей в обществе традиции – коллективной памяти о прошлом>1.
XX век, однако, внес свои коррективы. С одной стороны, колоссально изменились средства коммуникации: появление телеграфа, телефона, радио и телевидения, авиасообщений самым радикальным образом сказалось на характере источников, с которыми историкам приходится сталкиваться в своей работе. С другой стороны, изменение социальной структуры общества в XX веке, его демократизация, особенно заметная в Европе и Америке в послевоенные десятилетия, привела к тому, что сфера интересов исторической науки значительно расширилась – в поле зрения историков попала повседневная жизнь обычного человека. Эти процессы (изменения в средствах коммуникации и стремление к демократизации исторической науки) и привели к появлению «устной истории» – особого направления исторической науки, ориентированного на работу с устными рассказами-воспоминаниями.
В нашей стране сам термин «устная история» стал использоваться сравнительно недавно. Его появление в работах конца 1980-1990-х годов несомненно связано с обращением отечественных историков к опыту своих зарубежных, в первую очередь западноевропейских и североамериканских, коллег, знакомство с которым по-настоящему состоялось только в годы перестройки. Между тем и в нашей стране в 1920-1930-е годы инициированием и записью устных воспоминаний очень активно занимались исследователи, изучавшие историю профсоюзного движения, историю Гражданской войны, историю фабрик и заводов. Очевидно, однако, что в условиях жесткого идеологического контроля эти начинания неизбежно рано или поздно ставили исследователей в сложное положение – хотя бы уже потому, что они с очевидностью обнаруживали существование в советском обществе различных настроений, «неудобных» воспоминаний, неортодоксальных интерпретаций прошлых событий. Свою роль, вероятно, сыграло и то обстоятельство, что советская историческая наука твердо усвоила основные принципы позитивистского подхода к истории – и потому устные воспоминания, как источники личного происхождения, к тому же сильно отстающие по времени от описываемых в них событий, расценивались серьезными исследователями достаточно скептически. Таким образом, к началу перестройки запись и изучение устных рассказов о прошлом воспринимались как занятие для любителей-краеведов или представителей других профессий (писателей, журналистов), но не для профессиональных историков>2. В силу этих обстоятельств устная история представляется многим лишь результатом заимствования. Можно сказать, что история устной истории в нашей стране еще не написана. Главное же – очень многие вопросы, принципиальные для понимания особенностей и границ возможностей устной истории как метода исследования, только становятся в России предметом широкого обсуждения среди историков, социологов, журналистов, словом, всех тех, кто использует в своей работе устные рассказы о прошлом. Поэтому мы неизбежно вынуждены повторять здесь некоторые основополагающие положения, выдвинутые несколькими десятилетиями ранее, в ходе подобных же споров и дискуссий среди историков в различных странах Западной Европы и Северной Америке (об истории возникновения устной истории в странах Западной Европы и Северной Америки см.: Бэрг 1976; Урсу 1989; Лоскутова 2000: 5-31; Томпсон 2003а; Thompson 1988; Oral History 1996).
Вполне естественно, что в первые десятилетия своего существования на Западе (1950-1970-е годы) устная история, желая доказать свое право на существование в университетах и исследовательских центрах, стремилась следовать канонам, выработанным позитивистской историографией. Исследователи, использовавшие в своих работах методы интервью, ставили своей целью прежде всего поиск фактов, не отраженных в известных письменных документах, подчеркивая достоверность устных рассказов, способность человеческой памяти – подобно письменным источникам – сохранять информацию на протяжении длительного времени. Для некоторых представителей социальных наук такое прочтение устной истории, в первую очередь как метода сбора данных о событии, актуально и по сей день>3. В то же время часто у тех, кто в первый раз сталкивается с этим направлением, возникает впечатление, что устная история – это своеобразное «окно в прошлое», альтернативный профессиональному историческому исследованию способ проникнуть в навсегда ушедший мир. Если историки реконструируют прошлое по документам, то рассказчик-очевидец и участник событий воспринимается аудиторией как «живое свидетельство», его воспоминания, как может показаться, способны заменить собой анализ и комментарий и позволяют читателю или слушателю «увидеть» прошлое «своими глазами».
Концептуальная несостоятельность и наивность подобного отношения к устной истории (столь свойственного очень многим представителям этого направления в Европе и Северной Америке в конце 1960-х —1970-е годы) была хорошо продемонстрирована целым рядом работ (см., например: Frisch 1979; Фриш 2003: 52–65). Действительно, в интервью мы неизбежно видим прошлое глазами респондента, к тому же отстоящего от описываемых событий на многие десятилетия своей жизни. Речь идет не только о том, что прошлое забывается: меняются взгляды рассказчика на окружающий мир, на историю своей страны, на свою собственную жизнь – и эти изменения, безусловно, отражаются в его воспоминаниях. С точки зрения позитивистской историографии эта особенность интервью – его ощутимый недостаток как исторического источника: только последовательно и настойчиво применяя специальные приемы исторической критики, из него можно вычленить крупицы «фактов», отбросив все субъективные суждения респондента как ненужный материал. При таком подходе, однако, мы рискуем полностью выхолостить рассказ очевидца и участника событий. К тому же, закрывая глаза на субъективизм рассказчика или вынося его «за скобки» исследования, историк невольно рискует поддаться соблазну и придать статус «факта» тем взглядам респондента, которые созвучны его собственной позиции. Между тем все другие суждения и оценки рассказчиков будут им отброшены как несущественная для дела «интерпретация» неспециалиста.