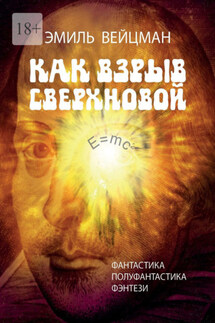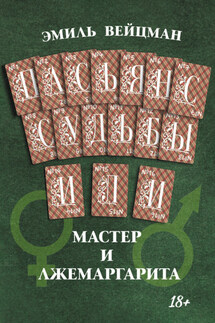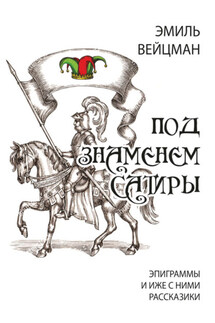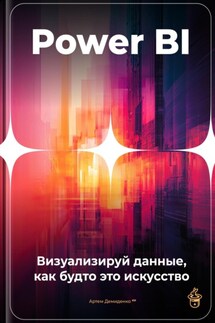Пасьянс судьбы, или Мастер и Лжемаргарита - страница 46
Дело было на Большой Грузинской улице, недалеко от улицы Горького (сегодня снова Тверская-Ямская). Стояли на трамвайной остановке двое мужчин и о чём-то разговаривали. Подошёл трамвай. Одних пассажиров высадил, других взял. Трамвай тронулся, набирая скорость. Один из мужчин, решив не дожидаться следующего номера, что-то бросил на прощанье своему собеседнику, помчался к уже набравшему скорость трамваю и попытался запрыгнуть на подножку задней двери первого вагона, ухватившись рукой на входную ручку. Да только, как следует, не ухватился за неё, сорвался и полетел на мостовую, едва не угодив обеими ногами под колёса трамвая. Однако успел-таки вовремя расположить ноги параллельно рельсам. А вот футболисту московского Спартака Владимиру Степанову не повезло – попал под трамвай и остался без обеих ступней. Человеку было тридцать два года. Так что же о малолетках – то говорить?! Одноногие калеки в те годы были не редкостью. Трёх калек я знал лично – один жил в нашем доме, двое других учились в моей школе № 116, расположенной на Красной Пресне. Ещё одного ученика по фамилии Ульянов трамвай задавил насмерть. Та же участь постигла сына Надежды Николаевны Фоминой, с которой я работал в литейном цехе Пресненского машиностроительного завода после окончания института.
Сегодня я уже не помню, получил ли я от матери нагоняй за моё очередное несанкционированное путешествие, знаю лишь одно – бедная моя бабушка с ног сбилась, ища меня по всему Разгуляю. Да куда там.
Естественно, мама написала отцу на фронт о случившемся. Тот отнёсся к этому довольно спокойно, с иронией, поскольку в своём одесском детстве сам откалывал номера, за которые его родитель частенько драл сына, как сидорову козу. Впрочем, кое-какие выводы из случившегося папа, естественно, сделал, посоветовав чем-нибудь занять меня, как следует. Чтобы ни минуты свободной не было. Да только, как этого достигнуть, когда ты оставлен на попечении бабушки, не чаявшей души во внуке и прощающей ему все выходки и издевательства. Конечно, она изо всех старческих сил пыталась держать меня на коротком поводке, а я изо всех крепчающих детских сил пытался уйти от него. Мне страшно не нравилось находиться с бабушкой вне дома, а дома в её обществе было очень скучно. Частенько я просил бабушку рассказать мне какую-нибудь сказку, да вот беда – моя еврейская бабушка не знала ни одной сказки; сказки – то эти были русскими сказками, откуда их было знать женщине, родившейся и выросшей в черте оседлости. Вот библейских историй она знала предостаточно, но меня совсем не интересовал, например, эпизод из детства Моисея, когда перед будущим пророком положили царскую корону и жаровню с раскалёнными угольями, чтобы поглядеть, к чему он потянется. (Кстати, этого эпизода в русской версии библии я не обнаружил.) Бабушка была замечательным человеком, вот только я понял это много лет спустя, нахлебавшись вдоволь «взрослой жизни». Я могу привести не один десяток эпизодов с её участием, характеризующим её с самой лучшей стороны. О некоторых из них мне рассказывали, свидетелем других был я сам. Вот один из них, весьма яркий.
В те далёкие годы в рамках, так называемых, радиоспектаклей много чего транслировали, в частности, радиоинсценировки по знаменитым романам. Справедливости ради надо сказать: и сегодня по «Радио России» инсценировки подобного рода «имеют место быть». Извините уж за такую сленговую фразу. Так вот, как-то по радио передавали инсценировку романа Чарльза Диккенса «Давид Коперфильд». Мы знаем, как досталось мальчику Давиду, оставшемуся сиротою. Сиротские страдания были показаны по радио столь натурально, что довели бабушку до слёз. Впрочем, для этих слёз имелась и другая причина – имя главного героя. Моя еврейская бабушка Диккенса никогда не читала, но раз мальчика зовут Давид, значит, это еврейский мальчик и, следовательно, его особенно жалеть надо. Сопереживать. Она и сопереживала. Ещё как.