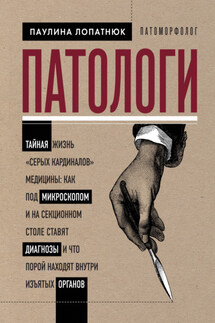Патологи. Тайная жизнь «серых кардиналов» медицины: как под микроскопом и на секционном столе ставят диагнозы и что порой находят внутри изъятых органов - страница 14
Что касается Саймона Флекснера, то на его счету не только общие с Винтерштейном розетки, но и бактерии, поделенные пополам с одним японским медиком, – именно ему вызывающие дизентерию Shigella flexneri обязаны своим видовым именем, а Киёси Шига остается покровителем рода. Однако оставим микробы и вернемся к розеткам. Описав в 1891 году в журнале «Бюллетень больницы Джона Хопкинса» опухоль, растущую на глазном яблоке четырехмесячного ребенка, Флекснер отметил как физическую связь опухоли с сетчаткой, так и ее поразительную тенденцию к образованию кольцеобразных розеточных систем. Таким образом из моря темных недифференцированных клеток опухоли, которая сегодня называется ретинобластомой, розетки возникают из слегка более дифференцированных, продолговатых, словно маленькие столбики, клеток, окружающих почти пустой, центральный просвет с лишь тонкими, слабо различимыми выступами, совсем чуть-чуть касающимися центра. Точно так же, как двадцать лет спустя Джеймс Гомер Райт заметит сходство «своих» клеток с нервными клетками, так и здесь наблюдателю бросилось в глаза подобие высоких клеток с фоторецепторными клетками сетчатки, колбочек и палочек, и с этими наблюдениями позже согласился Винтерштайнер, тем самым закрепив нынешнее название находки. Интуиция обоих исследователей подтвердилась результатами электронной микроскопии. Примитивные фоторецепторы смело пытаются воспроизвести свою основную цель, хранящуюся в генах, создавая силой маленькие пузырьки раковой сетчатки. Есть в этом что-то интересное.
Другие невропатологические розетки и псевдорозетки не имели своих эпонимов, что совсем не означает, что они не пользуются признанием медицины. Они различаются в деталях – некоторые накапливаются вокруг кровеносных сосудов, другие, типичные для эпендимомы, опухоли центральной нервной системы, которая развивается из клеток эпендимы желудочков мозга и центрального канала спинного мозга, расположены радиально вокруг абсолютно пустого просвета, снова имитируя типичные пути развития для ее прототипа. Есть еще и другие, менее сформировавшиеся и правильные, напоминающие розетки Гомера Райта, которые немного больше, немного расплющены, пугающие риском новообразования из железистой ткани шишковидной железы (обыкновенным, не эмбриональным) в сердечном желудочке и способствующего гидроцефалии центральных клеточных невром (центральная нейроцитома). Один паттерн, а сколько возможностей. Прямо как в случае с барьерами и частоколами, которые в разных видах и формах являются своего рода частоколом скопившихся ядер опухолевых клеток вокруг областей некроза, типичных для мультиформных глиом, называемых эмбриональными, (глиобластома), они успокаивают глаз упорядоченными заборами, расположенными в доброкачественных нейробластомах в виде структур типа «тельца Верокаи».
Но хватит уже этой нервной системы. Я не знаю, говорит ли вам о чем-либо имя сиротки Ани (Little Orphan Annie) – героини придуманных в США с 1920-х годов Гарольдом Греем комиксов, которая никогда не становилась такой популярной у нас, как на ее родине, хотя, вероятно, песню Tomorrow из мюзикла, созданного на основе комиксов, узнают многие. Вероятно, не только большинство студентов, но также будущие или нынешние патологи, встречая сравнение с глазами сиротки Ани в учебниках, скользят по ним, не задумываясь, даже не вспоминая образ Ани в комиксах. А ведь именно это сходство клеточных ядер под микроскопом при взгляде на папиллярный рак щитовидной железы с незаполненными белыми овалами, данными девушке автором комикса вместо глаз, привлекло внимание профессора Нэнси Э. Уорнер из Университета Южной Калифорнии. Почти пустое ядро клетки, окруженное очень узкой цветовой гаммой хроматина, и напоминание о пустых белых глазах польским (и, вероятно, бельгийским) читателям может вызывать куда более тревожные ассоциации – у нас большую известность, чем приключения решительной девочки, получила известная серия комиксов Росинского и Ван Хамме о Торгале Эгирссоне