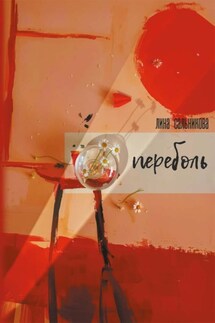Переболь - страница 3
когда не сбылось.
Знать на вес эту тяжесть слов,
знать, какое убьёт, а какое подарит жизнь.
Откуда мне знать, как правильно, а не в лоб
любить тебя?
Если ты знаешь, то расскажи.
Как прикасаться так, чтобы не сломать, если тебя
ломает
мое
сама —
сшествие к твоим потаённым краям души?
Как быть с тобой – расскажи.
Такой весь в броне, отстранённый, родной, смешной,
научи, как быть мной и тебя не разрушить мной.
[У нас почти зима]
Любимая, у нас почти зима, хотя во мне ещё отчётлив март и
несколько отчётливей – сентябрь. Мне снится: мы увиделись
хотя бы на пять минут. Над городом туман. Теперь, когда я здесь,
ты далеко. Зима подходит, словно к горлу ком, как снежный
ком, к весне сойдёт лавиной. Мне хочется любви необъяснимо,
в простом: к тебе притронуться рукой. Мне снится, как декабрь
не устал, ты оставляешь солнечный Кейптаун и движешься
вглубь джунглевого Конго. А после прилетаешь ненадолго
согреть визитом здешние места. У нас почти зима. Почти весной
сон перестанет быть всего лишь сном, а время круг замкнёт
привычной встречей. И, думая об этом, как-то легче скучать,
пока тебя здесь нет со мной.
[Часть живого]
Вот октябрь заострил на листьях тень.
Стало слышно в оголенной пустоте,
как умеет жизнь шуршать, когда расслышал.
Я листок, я был отпущен чем-то свыше,
я отрывок – оторвался и летел.
Мне легко виском ложиться на траву:
я живой, поскольку слышу, как живу.
Я живой, поскольку обладаю звуком.
И когда себя расслышу, то пойму, как
и других на свете различать на звук.
Я листок, отрывок из черновика,
я древесный хруст сухого черенка,
прислонённые к траве висок и ухо.
Я звучу и значит, всё во мне не глухо
к тем, кто – тоже часть живого языка.
[Вавилонское]
Собрались, словно на второе
вавилонское столпотворение.
Хочется быть героем,
спасителем,
лидером мнений.
В крайнем случае – просто ходить по двое.
Вышло стать пеной слов,
волнами,
войсками воя.
Выронить за борт, кирпич уронить на тех, кто.
Смотрит и поражается Архитектор:
не тому я учил живое,
не из такого лепил их теста.
Тексту
становится сразу ничтожно тесно,
его
сразу
ничтожно
мало,
когда ужас строителей заливает фундаменты и каналы,
когда сердце и руки строителя не на месте.
Вопреки созиданию,
текст превращается в шаткое здание.
Кладка выходит халтурой,
речь выливается в тайный заговор,
Архитектор, от стройки хмурый,
устаёт
повторять
монотонное
«заново».
А потом, задолбавшись им объяснять азы,
он берет этот чертов кирпич,
как они до того, просто роняет один кирпич,
и
весь их нелепый
пустой
испуганно-злой язык
превращается
в никому
не понятный
птичий.
[Когда мне боль и горечь разрешат]
Когда мне боль и горечь разрешат ощупывать себя: душа, душа,
живое тело, от слезы́ дорожка – когда я вновь приду
в себя от дрожи, согрею руки, намотаю шарф, распробую опять
на вкус слова – и вспомню, что пока ещё жива. Когда слова
вновь прекратит трясти, в моей тщедушной маленькой горсти,
в разжавшейся от судорог ладони зажжется свет, и в свете боль
утонет. И я смогу ещё не раз светить.
Прости меня за прожитую боль.
Прости за всё, что здесь стряслось с тобой.
Оно со мной стряслось, к несчастью, тоже.
Но я, себя ощупав осторожно,
сумею отыскать в себе любовь.
Чтоб ожил каждый, кто пока что может.
[Чудо]
Чудо: я вырос в новое. Только – кто я? Что было наполнено
в прошлом, теперь пустое. Что было наполнено прошлым, сейчас
исчезло. Чудо: я вырос в другое. Но где мне место?
Похожие книги
Переболь – это умение перерасти прошлое, перешагнуть порог в лучшее, пережить и переменить. Оставаться уязвимым, но смелым в попытке говорить и слушать. Вступать в диалог, несмотря на страх остаться непонятым. Открываться близости, не боясь различий. Честно встречаться со своими и чужими чувствами. И быть – даже когда всё рассыпается в этом непредсказуемом мире.Третий печатный сборник Лины Сальниковой повторяет жизнь: горе и счастье живут бок о б
Сборник юмористических и сатирических четверостиший, написанный членом союза писателей России с 2017 года. Автор 33 года отдал службе в армии, награждён боевым орденом и медалями, да и после службы работал, работает он и сейчас. И одновременно пишет стихи. Вот эти-то стихи и представлены на ваш суд. Кто-то скажет: это уже было! Игорь Губерман пишет в этом жанре, уже давно, и успешно пишет. Да, это так, и Владимир считает Губермана своим литератур
Лирические стихи, написанные автором с 2001 года по 2002, это период вдохновения и публикации стихов на литературных сайтах, в поэтических сборниках, участие в ЛИТО.
Сборник стихов. Начало СВО, гражданская лирика, философская лирика, религиозная лирика, любовная лирика. Поэма "Победители" в память деда старшего лейтенанта Черепанова Корнила Елизаровича, ветерана ВОВ, участников СВО.
Лучшая муза всей моей жизни, которой я написал за 10 лет 250 стихов.Бесконечно благодарен Богу за встречу с ней и вдохновение, а мышке – за хорошее отношение!
Две повести1) «Хрустальный пьедестал»Виталий Боков обожает блондинок, но ему почему-то с ними не везёт. Эти девушки раз за разом разбивают ему сердце. И вот, наконец, он встречает девушку своей мечты. Чем всё это закончится? Главное – любить!2) «Современная сказка»Дочь атамана куреня влюбилась в иностранца – итальянца Виттора, который на самом деле оказался таджиком. Что из этого получилось – стоит прочесть до конца.
Приключения двух подростков с современной Земли – брата и сестры, в волшебном мире, где творчество приравнено к магии.Включает в себя большое количество стихотворений, юмора и глубокого смысла.Написано с любовью к чудесам и читателям.Спасибо Богу за идею и вдохновение.Всем желаю верить в чудо!