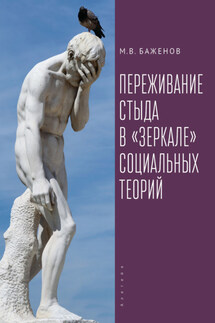Переживание стыда в «зеркале» социальных теорий - страница 8
Возвращаюсь к теории социального действия. Вопрос: зачем нужно описывать ситуацию стыжения/стыдимости с помощью данной теории? Шире – в чем заключается актуальность описания с помощью социальных теорий эмоциональных состояний человека (в том числе, и стыда)?
К вопросу об актуальности исследований эмоций с помощью социальной теории
Начиная с XVII в и чуть ли не до середины XX в. в философии и науке преобладала рациональная модель человека, согласно которой, например, «социологу предписывалось дистанцироваться от всех оценок, эмоций и чувств, дабы достигнуть объективности знания, которой, как утверждалось, противоречат и мешают именно эмоции… Но тут грянули кризисы, предсказанные классическими работами о капитализме. Социологи поняли, что в объяснении поведения концы с концами не сходятся, научную картину нужно дополнять. На сегодня положение о том, что индивид – это аналитическая единица с присущими ей рациональными мотивами, считается не только неполным, но и ошибочным. Теперь модель человека рационального "раскрашивается" аффективными аспектами-красками»[44].
«Я-Ты, Я-Мы[45]. – варианты субъект-субъектного отношения. Это. не отношение дистанцированности субъекта и объекта[46], а отношение коммуникативное, диалогическое, в котором обнаруживаются сложные, противоречивые взаимосвязи, где важную роль играет не только интеллект, но и чувства, эмоции.»[47]. В 1960-х и 1970-х годах «романтическое восстание против идеологии Просвещения»[48] привело к тому, что понятия «эмоция», «чувство», «страсть», «аффект» перестали быть маргинальными для теоретиков, изучающих человека и общество. И сейчас в структуре философского знания имеется такая самостоятельная дисциплина как философия эмоций[49]. «Перестав рассматривать чувство как тип внутреннего толкования, не-рационального и более или менее адекватного внешним событиям, современная мысль пытается, особенно начиная с Хайдеггера, понять чувство (эмоцию, переживание. – М. Б.) как способ бытия человека. И, в частности, как такой способ бытия, благодаря которому человек поддерживает или восстанавливает свою связь с совокупностью всего, что есть, связь, без конца компрометируемую мыслью (по крайней мере, мыслью не философской) и действием, которые могут достичь своей общей цели лишь путем дробления и деления на части»[50].
В какой же степени индивидуальное переживание (аффект, эмоцию, чувство[51]) можно рассматривать как социальный феномен? Это – один из центральных вопросов, решаемых в рамках микросоциологического подхода. М. Ю. Горбунова и Л. А. Фиглин пишут, что «эмоции как переживания, присущие отдельной личности, вплетаясь в ткань социального взаимодействия, переходят в разряд надындивидуальных явлений, а значит, могут быть подвергнуты социологическому анализу. Необходимо отметить, что эмоциям присущи две основные социальные функции. Во-первых, эмоции структурируют социальные ситуации, определяя позицию индивида в социальной среде.–, закрепляя границу между внутригрупповым и внегрупповым, между другом и врагом и т. д. Во-вторых, сами эмоции являются внутренними ресурсами индивида, которыми можно обмениваться»