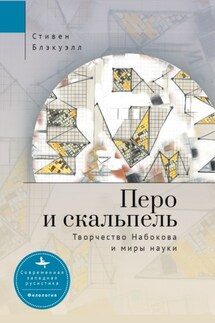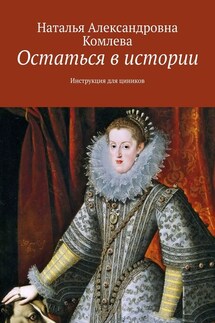Перо и скальпель. Творчество Набокова и миры науки - страница 8
ПОЗНАНИЕ И ОБМАН В ИСКУССТВЕ И НАУКЕ
Связующее звено между набоковскими концепциями искусства и науки возникает из его взглядов на познание как на свойство человеческого сознания. Познать природу и другие живые существа – дело сложное и трудоемкое. Лишь считаные писатели, помимо Набокова, уделяют такое пристальное внимание широко распространенному бытованию ложных представлений о мире. В русской литературе самые очевидные предшественники Набокова – Н. В. Гоголь (например, в «Ревизоре») и Л. Н. Толстой (особенно в «Войне и мире»). Удивительно другое: у Набокова это внимание включает в себя и чувствительность к ложному знанию в точных науках[22]. Подобно Гёте, еще одному художнику-ученому, речь о котором впереди, Набоков с некоторым подозрением относился к преобладавшему в научном поиске и познании количественному, ньютоновскому подходу с его атомистической, механической основой и попытками объяснить все природные явления с помощью чисел или формул, – все это он называл «искусственным миром логики» [ЛЗЛ: 469]. Но в популярном дарвинизме и фрейдизме Набоков нашел конкретных противников, чье чересчур широкое применение неэмпирических (неподтвержденных или не до конца подтвержденных) теорий подпитывало миф о возможности довести до совершенства научное познание в самых разных сферах, вплоть до таких, как механизмы и источник жизни или человеческий разум[23]. Чтобы понять, почему Набоков бросил вызов этим титанам, нам необходимо прочувствовать, как он воспринимал саму попытку хотя бы частичного познания реальности. Существенная часть набоковских воззрений на познание заключалась в его понимании того, как разум способен обманывать сам себя.
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАКУНЫ И ДОМЫСЛЫ РАЗУМА
Как правило, набоковские персонажи обладают знаниями лишь о некой ограниченной области окружающего мира, хотя лучшие среди них пытаются заглянуть за пределы индивидуального бытия. Непрестанные, во многом успешные попытки науки выявить скрытые аспекты реальности основаны на двух предпосылках: во-первых, мир по сути своей гораздо сложнее, чем нам кажется; во-вторых, наши чувства лишь частично настроены на восприятие всей полноты мира. Оба эти факта забываются с поразительной легкостью, а наряду с ними и их важное следствие: что разум склонен заполнять лакуны в познании удобными теориями – чтобы «скорее изобрести причину и приладить к ней следствие, чем вообще остаться без них» [ТгМ: 503]