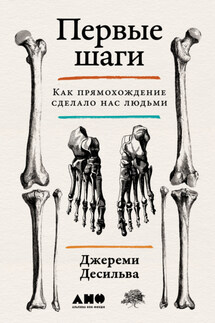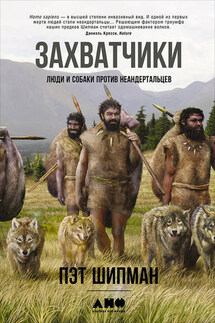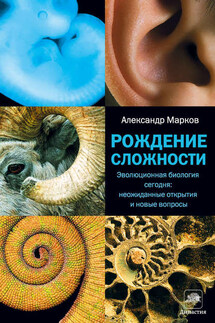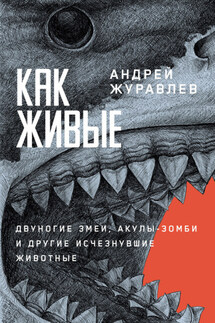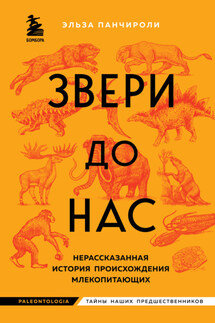Первые шаги: Как прямохождение сделало нас людьми - страница 6
Дарвин разрабатывал свою теорию, не располагая достаточной информацией. У него не было возможности прочитать отчеты о непосредственных наблюдениях за поведением диких человекообразных обезьян, такие данные начали появляться лишь столетие спустя. Более того, в 1871 г. еще не было найдено ни единой окаменелости первых людей с Африканского континента – места возникновения нашего вида, как по современным представлениям, так и согласно предсказаниям Дарвина, сделанным полтора столетия назад{21}. Единственными окаменелыми остатками древнего человека, известными Дарвину, были несколько костей неандертальцев из Германии, ошибочно принятые некоторыми учеными того времени за деформированные в результате болезни кости Homo sapiens{22}.
Не имея в своем арсенале таких полезных сведений, как палеонтологическая летопись гоминин и детальные наблюдения за поведением наших ближайших живых родственников, человекообразных обезьян, Дарвин сделал все, что мог, предложив проверяемую научную гипотезу прямохождения человека.
Данные, необходимые для проверки его идеи, начали появляться в 1924 г., когда молодой австралийский анатом и палеонтолог профессор Университета Витватерсранда (ЮАР, Йоханнесбург) Раймонд Дарт, специализирующийся на изучении головного мозга, получил ящик с камнями из шахты возле города Таунга, расположенного в 480 км к юго-западу от Йоханнесбурга{23}. Открыв ящик, он увидел, что один из камней включает окаменелый череп молодого примата. С помощью вязальных спиц своей жены Дарт извлек череп из окружающей известняковой породы и понял, что он принадлежит весьма необычному примату. Начать с того, что у «ребенка из Таунга», как эту находку впоследствии стали называть, были крошечные клыки, совершенно непохожие на клыки павианов и человекообразных обезьян. Однако самые красноречивые подсказки таились в окаменелом головном мозге этого ребенка.
Основной предмет моего научного интереса – кости ног наших предков, но, конечно, с исторической и эстетической точки зрения никакие окаменелости не могут сравниться с черепом «ребенка из Таунга». В 2007 г. я специально ездил в Йоханнесбург, чтобы его изучить. Куратором коллекции окаменелостей там является мой друг Бернхард Ципфель, бывший ортопед, ставший палеоантропологом, когда ему «надоело лечить косточки на ногах». Однажды утром он достал из хранилища маленький деревянный ящик{24}. Это был тот самый ящик, в который Раймонд Дарт уложил бесценный таунгский череп почти столетием раньше. Ципфель осторожно вынул окаменелый мозг и вложил мне в руки.
После смерти этого маленького гоминина его головной мозг разложился, и череп заполнила глина. За тысячелетия осадочные отложения затвердели, превратившись в эндокаст – внутренний слепок мозга. Окаменелость в точности воспроизвела его размеры и форму, прекрасно сохранились даже такие анатомические детали, как борозды, извилины и кровеносные сосуды. Я осторожно перевернул окаменелый мозг и увидел толстый слой поблескивающего кальцита. Свет отражался от него, словно это была жеода, а не останки древнего человека. Я и не подозревал, что таунгский череп настолько красив.
То, что борозды и извилины сохранились так хорошо, оказалось несомненной удачей, поскольку Дарт знал анатомию головного мозга как никто в мире. В конце концов, он был нейроанатомом. Его исследования показали, что мозг «ребенка из Таунга» был примерно такой же величины, что у взрослой человекообразной обезьяны, но по структуре лобных долей больше напоминал человеческий.