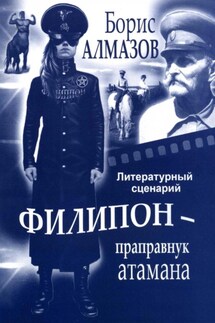Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии - страница 30
В 1722 году, по запросу Синода, выговцы дали письменные ответы на вопросы о свой вере. В «Поморских ответах» поморцы написали, что никонианских новшеств, по прежнему, не принимают, но свои обязанности к государству признают, а царей к еретикам не причисляют. Ради спасения, желали бы замкнуться в собственном отдельном «мире», но государственных повинностей не отвергают, готовы платить двойную подушную подать и выплачивать за требуемых рекрутов в царское войско по 120 руб.
Ломка жизненного уклада в России, начатая Петром I, способствовала постепенному возрастанию числа старообрядцев.
Число жителей Выговских скитов значительно выросло. К началу века здесь официально жило 1000 человек (из них 700 женщин), а неофициально до 2800. Выработанное в скитах ученье распространялось не только в Олонецком уезде, но по всему Поморью. Выг считался «беспоповским Иерусалимом». Сюда шли учиться чтению, уставному письму и иконописи, для чего действовала особая школа. Более 100 девиц и несколько мужчин занимались там перепиской книг и отсюда выходили опытные начетчики и начетчицы.
Расцветало хозяйство. Занимались земледелием, скотоводством и промыслами: рыбной ловлей, охотой, торговлей. Имелись в скитах и мастерские избы: кузнечная, швальни – портная и чоботная, кожевня, медня и др. У выговцев были свои корабли, посылались свои артели на остров Шпицберген для добывания оленей, моржей и белых медведей. Добычу отвозили в Архангельск, там покупали треску и отправляли ее в Петербург для обмена на хлеб. Во многих городах у выговцев были дома и капиталы, а доходы скитов в 1830-х годах доходили до 200 тысяч руб. Управлялись скиты выборным «большаком», который жил в Данилове и заведовал как хозяйством и казною скитов, так и религиозными их делами. При большаке состояло несколько доверенных лиц, которые ему помогали.
Расцвет скитов совпал с царствованиями Екатерины II и Александра I, когда раскольники не подвергались преследованиям.
Николай I, вступив на престол, начал гонения, а к концу его царствования скиты были почти разорены. С 1827 года стали принимать карательные меры – запретили принимать в скиты детей, вывозить из скитов книги и иконы, проживать в пашенных дворах, были сняты с часовен колокола. Полное разорение Выгоцких скитов настало в 1854–1855 годах. Оставшиеся в скитах жители были выселены, сломаны ограды вокруг скитов и кладбищ, разрушены больницы, мастерские и часовни.
Третий толк беспоповцев – филипповский. Некоторые олонецкие и архангельские беспоповские общины, жившие в лесах и почти не имевшие сношений с внешним миром, осудили отступничество выговской общины от первоначальных правил. Часть поморского согласия во главе со старцем Филиппом отошла от выговских поморцев и образовала свой «филипповский» толк с центром на реке Умбе (Кольский полуостров). Филипповцы считали единственным путем спасения самосожжение, и к нему готовились. В 1743 году Филипп с группой последователей был окружен посланным властями военным отрядом, но 70 человек сожгли себя в срубе. Филипповский толк и идея «самосожжения» распространялись на Севере России и в Верхнем Поволжье.
Последнее деление беспоповщины – странничество, возникло в 1760-е годы, и к середине XIX века распространилось в Архангельской, Олонецкой, Пермской и других губерниях. Последователи странничества – бегуны – не имели дома, отвергали всякое подчинение властям, не платили податей, избегали военной службы. Даже обряд крещения они совершали только в дождевой воде или роднике – той воде, которая не текла по земле, казавшейся им «подвластной антихристу».