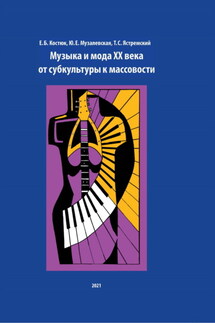Плевицкая. Между искусством и разведкой - страница 22
Схватила меня за руку, повела за собой. Я растерялась, сестра Дунечка дрожала, она думала, что ведет за собой погибшее создание в шляпке. Я понимала, как мне будет трудно убедить сестру, что вовсе не такая я скверная и что, хотя "Европейская гостиница " – место не очень пристойное, но все же и там есть уголок чистоты. Дуня привела меня в кухню, сорвала с меня шляпку, бросила об пол, строго крикнула:
– Сиди!
И быстро ушла в мастерскую к хозяину. Я сообразила, что она хочет взять отпуск, чтобы немедленно отправиться со мной в деревню, и решила действовать. Подняла с полу эту несчастную певичкину шляпку и бросилась из кухни на двор. Выбежала на улицу, крикнула извозчика, сунула ему рубль:
– Гони что есть духу, в "Европейскую".
Извозчик, верно, не удивился, что ему так щедро заплатили, раз "барышня" из "Европейской". Он домчал меня скоро. Погони не было, и я успокоилась, но швейцару наказала:
– Если будут спрашивать Винникову, скажи, что такой нет.
Швейцар мне подмигнул:
– Понимаю.
Я больше на улицу – ни ногой. Через неделю уедем в Царицын – и делу конец. А с Надей, подругой, я крепко поссорилась – зачем убежала, когда сестра потянула меня за собой. Накануне отъезда в Царицын, после репетиции, спускалась я, помню, вниз по лестнице к себе в комнату, беспечно напевая только что разученную песню. Но вдруг оборвался голос, я сама от неожиданности поскользнулась и чуть не покатилась со ступенек: в дверях гостиницы стояла сестра Дунечка и молча смотрела на меня. Бежать было некуда. Растерянно я стала приглашать ее зайти.
– Я – в этот. Ополоумела ты, непутная, – сказала Дуня дрожащим голосом, – ты сама выйди, мать плачет, сейчас же иди сюда.
Видно было, что разговаривать с ней невозможно. Казалось, она даже была готова меня побить. Я вышла на улицу и увидела мать: она стояла, сгорбившись, такая жалкая. По исхудавшему лицу текли слезы. Плакала и Дуня.
– Мамочка, ну пойдем ко мне, я покажу тебе, где живу, – просила я мать, но она не слушала, упрекала:
– И в кого ты уродилась? Родила тебя на свое великое горе. Глаза б мои не глядели, в какое место пошла. И как тебя земля носит.
Корила меня, а слезы лились по морщинистому лицу.
– Пойдем, посмотри, мама, пойдем, – молила я.
Мать жалобно посмотрела на сестру. Та молчала.
– Ну пойдем, – вздохнула мать. – А ты, Дуняша?
– Я не пойду.
Привела я мать в комнату Александры Владимировны. Там у образов горела лампада. Бабушка в белом чепце сидела в кресле, тихо играя с внучкой. Мать этого никак не ждала. Она помолилась на образа, огляделась:
– О, да тут и старушка, Божий дар, и лампадочка, знать, не совсем Бога забыли.
Мать любовно посмотрела на меня.
Вошла Александра Владимировна и совсем мать мою покорила:
– Акулина Фроловна, ваша Дежка с талантом. Мы ее вымуштруем, и она будет хорошей артисткой.
– Да что с ней поделаешь? Все равно убежит. Видишь, какая она востроглазая. Вот пойду с батюшкой да с наставницами посоветуюсь. Уж очень большой грех – быть актеркой. Но, видно, с Богом-то и везде можно жить. А ты, Дежка, что скажешь? Можно тут жить и душу не загубить?
Я сказала, что прошу оставить меня здесь, а сохранить себя можно везде, это зависит от самого человека.
– Так-то оно так, только если б отец твой был жив, он бы с тебя кожу спустил за этакие выдумки.
Сидела мать у нас долго и совсем успокоилась.
– Ну, вот что, Александра Владимировна, бери ты ее, – сказала она под конец, – да бей ты ее, если слушаться не будет. Вот перед Богом, отдаю тебе Дежку.