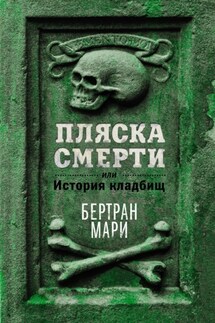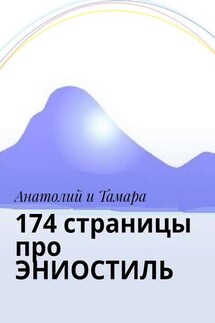Пляска смерти, или История кладбищ - страница 3
Верующие хотели покоиться ad sanctum – то есть как можно ближе к святым. Они искали (если нужно, ценой золота) защиты самой священной части храма: реликвария с останками святого или мученика, хранящегося за алтарем, там, где совершалась месса и куда устремлялись взоры прихожан.
Так живые надеялись увеличить свои шансы оказаться в числе избранных в Судный день. В противном случае им приходилось довольствоваться менее желанным местом: рядом с официальной скамьей семьи или в свободном углу нефа, а то и одной из галерей. Когда внутри церкви стало отчаянно не хватать свободного места, верующие устремились поближе к церковным стенам, чтобы в дождливые дни их могилы омывала святая вода, текущая из водосточных труб…
Вторую группу усопших, несравненно более многочисленную, составляли бедняки и люди со скромным достатком – многие поколения которых мирились с тем, что им придется обходиться без могилы. Они представляли собой низшие слои общества, в частности те, кто работал руками: крестьяне, ремесленники всех профессий, лавочники, слуги и т. д. Поскольку большинство из них не претендовали на захоронение в церкви, их можно уподобить душам, которых несговорчивый Харон обрек скитаться на берегу Стикса, у ворот в подземный мир, ведь им нечем было заплатить паромщику…
Во всяком случае, простолюдины не знали то почтение, с которым духовенство относилось к похоронной церемонии представителей высших слоев общества: церковь и дом покойника были задрапированы траурными покрывалами; торжественная процессия шла при свете факелов и свечей; за душу усопшего служили многочисленные мессы и т. д. Это не мешало священникам приглашать бедняков своего прихода принять участие в пешей траурной процессии на похоронах богатых горожан за деньги[13]. Такое явление было настолько распространено, что состояние умершего богача стали оценивать по количеству нищих, сопровождавших его тело: бедняков в траурных одеяниях, воспитанников детских домов или подкидышей[14].
С другой стороны, до XVIII века многие бедные люди (как в городах, так и в сельской местности) хоронили покойников без гроба. Их перевозили с места смерти на кладбище, а затем закапывали в землю, просто завернув в саван. Иным приходилось довольствоваться самыми простыми гробами, сколоченными из четырех досок, подобных обычным ящикам (в Бретани их называли «загонами для свиней»[15]). В некоторых приходах на похоронных церемониях использовался общий гроб. Туда помещали тело и относили его к месту погребения, затем гроб забирали могильщики, чтобы повторно использовать на следующих похоронах. Во избежание подобного сценария некоторые люди, обладавшие достаточным состоянием, указывали в своих завещаниях, что «желают лежать в собственном гробу»[16].
Но главное различие между привилегированными слоями общества и простолюдинами заключалось в характере самого захоронения. В отличие от членов богатых или титулованных семей, которые не могли представить себе, что будут покоиться не в церкви (под погребальной плитой, стелой или в склепе), простым людям приходилось довольствоваться безымянной могилой на улице, далеко от церкви, там, где погребение всегда было бесплатным.
Таким образом, последнее пристанище бедных все больше напоминало братскую могилу, которая нередко находилась в центре кладбища. Контуры этой общей могилы постоянно смещались. Новые тела закапывали в земле вперемешку со старыми. Их укладывали друг на друга в пять-шесть слоев, и все они были обречены оставаться в безвестности. Массовые захоронения заполняли большую часть освященной территории вокруг церквей и становились конечным пунктом назначения для большинства умерших.