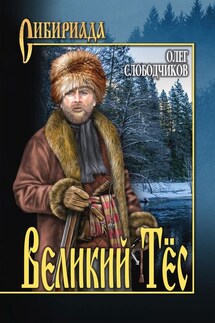По прозвищу Пенда - страница 40
– Ты объясни! – сдерживая себя, хрипел Ивашка. – Почему перед купцами хвостом метешь, а от честного люда морду воротишь?!
Не знал младший брат, что ответить, лишь краснел, бледнел и отмалчивался. Может быть, ждал, что старший обнимет и попросит прощения за все его поганое детство. Работным он стал кивать и кланяться при каждой встрече, будто невестке в отместку. Те только вздыхали, поглядывая на него жалостливо: «Сирота!»
По вечерам Угрюмка делал вид, что слушает брата. И все как-то молчаливо улыбался ему, кривя уголки губ, и заставлял себя думать, что брата доброго дал ему Господь. Только тот вспыхивает, как береста, да трещит, как хворост. А так ничего. Чаще он молчал, зевал, ложился спать рано, а уснуть не мог. Потом стал убегать к обозной молодежи для шалостей и веселья, оставляя брата наедине с мыслями.
Ивашке становилось страшно за них за обоих. Вспоминались непутевые родители, жуткий сон под выстывшей печью на обгорелом подворье. И от бессилия хотелось ему задрать по-волчьи голову и завыть.
Здесь, в Меркушино, у ворот Сибири, станичники почувствовали, как без споров и страстей пролег между ними дружеский, ласковый разлад: дружба, родство – дело святое, торги да промыслы – дело иное. Рябой, поглядывая на товарищей, старчески шевелил впалыми щеками, кряхтел, постанывал от былых ран. Кривонос мучился душой: болела она у старого казака за братьев. Это он когда-то отбил у озверевших мужиков тощего юнца, напомнившего ему свое сиротство. Избитого и заморенного Ивашку везли на казнь за то, что, спасаясь от голодной смерти, продал себя в холопство, а отъевшись, бежал.
Отбил его Кривонос не по правде – из неприязни к тамошнему народишку. Но случилось, что стал ему юнец вроде сына. Перебарывая себя и смиряясь перед неизбежным, он и начал разговор, которого все ждали и смущались.
– С Хопра-притока шли мы тебя спасать, – напомнил Ивашке, глядя на него налитыми тоской глазами. – Не леший завел – душами заплутали. Теперь уж каждый сам по себе. И я, грешный, думаю: коли не пойдешь ты назад, мне-то зачем на Дон возвращаться? Останусь здесь, на верфи. Вдовицу найду, даст Бог, или при церкви доживу в тишине и покое.
– Меня на Дону никто не ждет! – вспыхнул было, огрызнулся Ивашка и спохватился: – Прости, Христа ради! За добро твое не отслужил, старость твою не могу поддержать. Здесь неволей своей остаться с тобой не могу. В бега, на Дон – не хочу. И не могу. Позвал бы за собой – не пойдешь.
Понимали казаки, что оказались на распутье. Каждый выбирал свой путь, а куда он приведет – ведомо лишь Господу. Одно было ясно: помолясь друг за друга, отдав крестное целование, идти им дальше врозь. Свидятся ли еще на этом свете – неизвестно. Но там, на милостивом Суде Божьем, все равно встретятся и поведают друг другу о прожитом.
Набрался духу Ивашка, понимая, что товарищи ждут его слова, потому что ради него оказались здесь, стал говорить – то досадливо, то высокопарно, то приниженно, – что царским указом и Божьим промыслом дойдет с ватажными до Оби-реки, а после, при каком-нибудь казенном обозе, – к месту службы в Сургутский острог. И другого пути ему нет.
– Кто со мной пойдет – буду молить воевод о вас. Возьмут. В Сибири служилых мало, – говорил, не надеясь, что товарищи откликнутся. Иначе на добро их добром ответить он мог только молитвами.
Все молчали, опустив глаза. Это не удивляло Ивашку. Но молчал и Угрюмка: сидел насупившись, не поднимая глаз, терпеливо пережидал тягостный разговор.