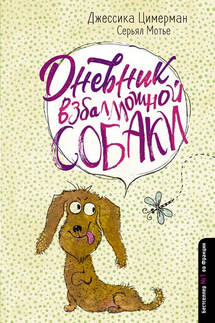Под белым муаром. Истории людей, ставших Римскими Папами - страница 21
В своей первой энциклике папа Лев проявил ту двойственность и неопределенность, с которой он взошел на престол, и которая очевидным образом беспокоила его сердце. В центре внимания святого отца находился римский вопрос. Эта рана была еще свежа и кровоточила. Данную проблему папа помещает в рамки безусловного зла, оценивая ее как действия врагов церковного порядка. Пересмотр государственных границ он называет атакой на церковь, ее дискредитацией, возбуждением ненависти к ее священным границам, позором и клеветой. Текст буквально сквозил обидой и разочарованием. Видно, как автор изливал для людей на бумаге свою боль. Это приближает персону недосягаемого понтифика, делает ее ближе к простым людям. Папа словно говорил со своим народом и так по-человечески сетовал ему на произошедшее. В этих словах печали открывалась и его натура новатора. Он отнюдь не хотел видеть церковь пережитком средневековых устоев и от этого еще острее переживал кризис. Словно убеждая самого себя и верных католиков в истинности своих убеждений, его святейшество впервые в истории папства употребляет слово «прогресс», столь не типичное для консервативного церковного сознания. Папа Лев жалеет и хвалит церковь, называет ее результатом цивилизации и источником подлинного развития. Как можно считать ее противницей прогресса? Зачем лишать ее подобающего высокого положения? Все эти вопросы святой отец словно оставляет на бумаге, не ожидая никакого ответа.
Своим верующим он предлагает идти по пути, который, очевидно, обозначил для себя самого. Принять новую власть для него невозможно, но подбивать людей к революции значило бы окончательное уничтожение папства, у которого не хватит сил себя защитить. Нужен некий срединный путь, который понтифик и излагает на страницах энциклики. Верующие католики могут и должны принимать достижения современной науки и прогресса. Избегать ханжества не означает утратить благочестие. Однако, всегда надлежит помнить о нерушимом авторитете церкви и строго следовать ее учению.
Таким образом Лев XIII обозначил план своего правления. Он будет стараться интегрировать в жизнь капиталистического общества древний и консервативный институт церкви, но его доктрину он полагает неизменной, вечной и обязательной.
При таком положении дел остается лишь одна составляющая, которую можно попытаться придать хоть какой-то огранке, чтобы церковь смогла выжить и окрепнуть. Это – социальное учение.
Глава 10
Богачи и бедняки
12 апреля 1891 года. Под звон колоколов верующие собрались в соборе святого Петра. В этот день отмечался праздник пальмового воскресенья. Святой отец в сопровождении высшего духовенства и куриальных сановников совершал торжественное богослужение.
Пышная процессия чинно двигалась по огромному собору под приветствия ликующей толпы. Преосвященные кардиналы, облаченные в высокие белые митры и бархатные багряные ризы, плавно огибали сень над центральным алтарем, творение архитектора Бернини, держа в руках пальмовые ветви. Вслед за ними двумя рядами шли статные, аристократичного вида мужчины, одетые в черные и малиновые камзолы. На их груди красовались различные ордена, расположившиеся вдоль шелковой ленты небесно-голубого цвета, свисающей через плечо каждого из них. Это были седиари, придворные на службе у Святого Престола. Они несли на плечах высокий и богато украшенный золотым тиснением трон, в котором располагался папа Лев XIII во всем своем великолепии. Его голову венчала великолепная тиара, украшенная, как мы уже знаем, тремя коронами. Ее выполнили специально по высочайшему заказу. Понтифик убрал со своей тиары обилие жемчугов и драгоценных камней, превращающих ее в единую композицию. Напротив, он пожелал изготовить столь важный атрибут папского величия из серебра, а каждую из корон отделать золотом, чтобы они явно выделялись. Более того, формы этих корон уже не напоминали ободы, но устремлялись вверх острыми углами, полностью повторяя форму королевских. Неизвестно, кому именно и что хотел доказать святой отец. Короля Умберто I вряд ли беспокоил внешний вид папской тиары, а простой народ был в любом случае счастлив от одной только возможности лицезреть наместника Бога на земле.