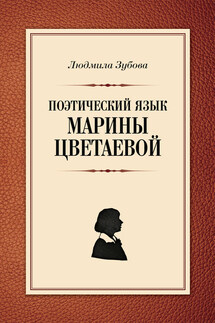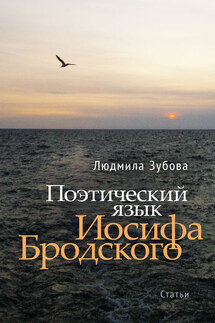Поэтический язык Иосифа Бродского - страница 2
(«Горбунов и Горчаков». 1965–1968. II: 263).
Характерно, что этот синкретизм проявляется в контексте с демонстративной грамматической трансформацией (И вот его сказал уткнулся в берег; Но раз сказал – предмет, / то также относиться должно к он’у).
Синкретизм представлен и в следующем контексте:
(«Петербургский роман /поэма в трех частях/». 1961. I: 63–64).
В этом случае употребление суть можно понимать и как глагол (‘что есть в твоей судьбе’), и как существительное (‘что является сутью в твоей судьбе’); во втором употреблении прочитывается отчетливое существительное. Таким образом, контекст создает размытую границу между разными грамматическими значениями звукового комплекса суть.
Двойная интерпретация суть возможна и в таком фрагменте:
(«Речь о пролитом молоке». 1967. II: 183).
Здесь допустимы прочтения (‘грех первородства не является сутью сиротства’) и (‘грех первородства – это не /есть/ грех сиротства’).
Двойственность интерпретации потенциально присутствует и в таких строках:
(«Я пепел посетил. Ну да, чужой…». ‹1960-е›)[11].
Двойной смысл обусловлен тем, что помимо прочтения ‘сохранить суть’ (суть – существительное) возможно контекстуально предшествующее ему прочтение ‘какое-то неясное старанье, уже не важно какое’ (суть – глагол в эллиптическом фразеологизме не суть в значении ‘неважно, несущественно’).
В некоторых контекстах слово суть может быть интерпретировано и как глагол, и как существительное в зависимости от наличия или от места знаков препинания:
(«Сидя в тени». 1983. III: 259);
(«Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова». 1974. III: 48).
Характерно, что в этих примерах ритмическое членение строк диктует, вопреки пунктуации, прочтение слова суть как существительного. Поскольку в синтаксическом прочтении это все-таки глагол, можно сказать, что в двойной сегментации текста, в конфликте ритма и синтаксиса (Эткинд, 1978: 104–141) слово стремится возвратиться к своему исходному грамматическому синкретизму, свойственному архаическому состоянию языка. Вообще во многих случаях добавление запятой или тире, аналогом которых выступает стиховой перенос (enjambement), легко превращает глагол в существительное. Тогда именной член составного сказуемого в метафоре отождествления становится однородным членом со словом суть, а связка семантизируется: из грамматического элемента, полностью лишенного собственного лексического значения, она становится непосредственным выразителем сущности.
Наблюдается и движение формы суть от грамматической связки к союзу – синониму союза то есть, что семантизирует этот союз, устанавливая равенство