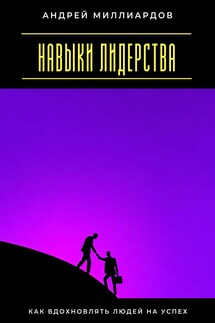Поэтика биосферы - страница 7
Еще один пример:
(Мандельштам, 1911)
В стихе Мандельштама за кажущейся простотой скрывается сложный и необычный образ: печаль еще только на пути к сердцу, сердце еще нужно наполнить печалью. В то же время возможна и другая трактовка: печаль уже находится в сердце. В результате это слово включается сразу в два смысловых ряда с разными (взаимоисключающими) значениями. Это ведет к появлению «колеблющихся признаков». Ахилл догонит черепаху, но как понять его движение.
Вспоминается изречение Гераклита, внесшего диалектику в самый стиль своих афоризмов: Имя луку – жизнь, а дело его – смерть. Здесь важное значение играет перенос ударения, как бы сопровождающий натяжение и ослабление тетивы лука, переход жизни в смерть: по-древнегречески, биос (ударение на первом слоге) – жизнь, а биос (ударение на втором слоге) – лук, орудие смерти (Гераклит, 2012; Воробьев, 1973).
Если проследить русскую поэзию от Тредиаковского, Ломоносова, Державина к Пушкину; от Пушкина, Баратынского, Тютчева к Хлебникову, Блоку, Мандельштаму можно обнаружить интересную тенденцию в эволюции стихового слова, выражающуюся в своеобразном углублении семантического элемента, в большем использовании эмоциональной окраски, скрытого смысла слова, второстепенных и колеблющихся признаков (табл. 3.1).
В творчестве российских поэтов восемнадцатого века, как правило, доминирует основный предметный смысл слова. Звезда у Ломоносова в великолепном «Вечернем размышлении…» является прежде всего астрономическим телом.
Звезда Баратынского не статический образ, а динамический процесс. В его стихотворении звезда совершает не только механическое движение, восходит и заходит на небе. Этот образ развивается вместе с содержанием произведения. Из звезды небесной, мерцающей возле луны на голубом фоне, она превращается в звезду друзей, земную звезду, которая «с думою глядит, и взору шлет ответный взор и нежностью горит». В финале земная звезда снова возвращается на небо, потом опять все сначала, формируется, как бы приземленный космический круговорот.
Хлебников, у которого образы, как и у Баратынского, часто являются процессами, а не застывшими картинами, вводит образ звезды, как один из центральных в поэму Ладомир. Этот образ проходит через ряд предметных значений (табл. 3.1): «созвездье человечье», «пылающий материк», «птица звезд» и т. д. Хлебников видит звезды не только в небе, но и в повседневной жизни. Сама земля становится пылающей звездой, но для установления Лада в Мире необходимо, чтобы «птица звезд осталась прежней». Звезда у Хлебникова является символом свободы, красоты, будущего устройства преобразованного человеком мира. Прямой противоположностью этому является образ, символизирующий прежний строй, «дворец продажи и наживы». Это статический образ. Раз найденная формулировка, дающая этот образ, практически не меняется на всем протяжении поэмы.
Заметим, что первые проявления колеблющихся признаков, встречается еще в стихах Тредиаковского. Однако, в период формирования поэтического языка, это явление оказалось преждевременным, и не включилось в движение русской поэзии. Поэтическая квантовая механика возникла в виде системы в двадцатом веке.
Поэтическое произведение как нерасчленимое целое
Попытки выделить элементы в поэтическом произведении терпят неудачу. Объясняется это, по-видимому, тем, что, выделяя элементы, мы разрушаем художественное произведение, которое всегда выступает как некое нерасчленимое целое, доведенное до совершенства, эстетического идеала. Вырывая элементы из произведения искусства, расчленяя стихотворение на агрегат слов, мы заменяем непосредственное его восприятие опосредованным. Между тем сила искусства в непосредственном и непринужденном воздействии на личность, а через нее и на все общество (Воробьев, 1973). Возможно, уместна аналогия между стихом и природным объектом как системы из нецелого числа элементов (Крышев, 1974).