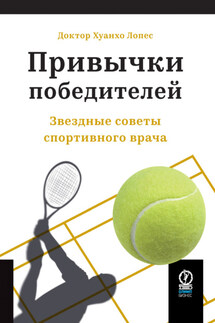Покров над Троицей - страница 22
Аккуратно, чтобы нечаянным движением руки не повредить хрупкий пергамент, Ивашка развернул его на столе, придавил края тяжелыми подсвечниками и погрузился в чтение.
«Аше бо не писано будет старцево житие, но оставлено… без въспоминаниа, то се убо никако же повредит святого того старца… Но мы сами от сего не плъзуемся, оставляюще толикую и таковую полъзу. И того ради сиа вся собравше, начинаем писати»…, - читал он вслух, а мысли витали вокруг последнего разговора с Голохвастовым, горло душила несправедливость, и злые слёзы падали на свиток одна за другой.
-Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, - послышался тихий голос.
Иван вздрогнул от неожиданности - за его спиной, на деревянной, грубо обструганной лавке, прислонившись спиной к почерневшему от времени срубу, сидел седой, как лунь, монах. Штопаная-перештопаная ряса, подвязанная конопляной веревкой, висела на худых плечах бесформенным балахоном. Натруженные руки с узловатыми, покрытыми синими венами кистями, безвольно лежали на коленях. Чуть наклонённая голова закрывала от греха сердце и подчёркивала высокий лоб с глубокими, изломанными морщинами.
Внешний вид старца выдавал крайнюю степень утомления, и только впалые глаза, прикрытые белёсыми, дрожащими ресницами, не отдыхали, жили напряженной, загадочной жизнью, внимательно изучая писаря. Каждой клеточкой Ивашка чувствовал этот взгляд, аккуратный и сторожкий, настойчиво пронизывающий насквозь. Казалось, что одежда и тело внезапно стали прозрачными, как вода, через которую видны все камни на дне. Точно так же сквозь саму Ивашкину сущность сделались заметными все его страсти и грехи, надежно спрятанные в сокровенных уголках души от посторонних. Мурашки побежали по спине. Губы привычно сотворили "Господи помилуй...". Ивашка размашисто перекрестился, и крест рассёк воздушное марево, сделав видимым пейзаж за спиной старца.
Бревенчатый сруб заканчивался высоким, массивным тыном в два роста, убегающим под горку к дорожной ниточке, петляющей среди возделанных полей, а далее распростерся густой, непроходимый лес, нахохлившийся и притихший, как перед грозой…
-Ладная година нынче сподобилась, - перехватив Ивашкин взгляд, промолвил монах, - вёдро.
-Чего? - неприлично шмыгнув носом, переспросил обалдевший писарь.
-Четыре дни, как на Маковце вёдро и воздух благорастворенъ, и кротко, и тихо, и светлость вельна зъло, - пояснил старец, - лепота, а ты слёзы льёшь.
Не услышав в голосе монаха ожидаемого сочувствия, писарю вдруг страстно захотелось во чтобы то ни стало доказать старику, что горюет он совсем не напрасно, а по самой что ни на есть уважительной причине. Отступило изумление от внезапного преображения темного холодного подвала в летнюю, солнечную деревенскую идиллию. Испуг и растерянность заместились непреодолимым желанием выговориться. Ивашка, торопясь и запинаясь, вывалил на старца свою обиду, не забыв наградить Голохвастова крепким словцом.
-Значит, изобидел тебя воевода? - уточнил монах, не меняясь в лице. - Это нехорошо. А ты?
-И я его обижу! - запальчиво выкрикнул Ивашка, тут же прикусив язык. - Хотя пока не знаю - как.
-Отомстишь, стало быть?- уточнил старец. - Что ж, твоя воля, - и сразу поинтересовался, - а пошто ты, Иван, облачение монашеское носишь?
-Как же? - удивился писарь такому непониманию. - Послушник я, постриг принять хочу…