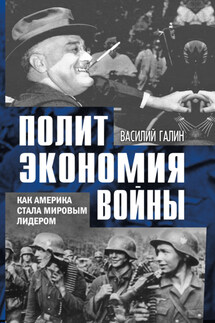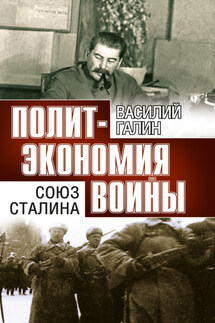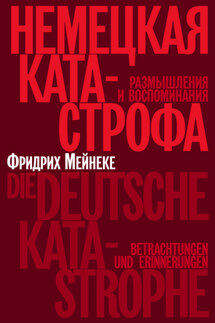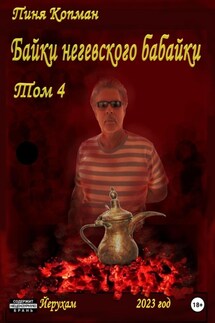Политэкономия войны. Союз Сталина - страница 4
.
Наглядно эту отсталость подтверждало сопоставление количества патентов (привилегий) на изобретения, выданных в России и странах Запада:
По срокам введения патентной системы, в 1812–1833 гг., Россия не сильно уступала своим конкурентам, например, в США патентное право на федеральном уровне было введено в 1790–1836 гг., однако по количеству выданных патентов отставание России было огромным: к 1870 г. в США было выдано 120,6 тыс. патентов, в Англии – 51,3 тыс., в Германии – 8,8 тыс., в Швеции – 1,6 тыс., в России – 1,4 тыс.[42]
При этом, как отмечал М. Брун, патенты в России принадлежали «преимущественно иностранцам»[43]. Действительно из всех 84 патентов на изобретения, выданных в России в 1870 году, 67 % принадлежало иностранцам, еще 10 % натурализовавшимся иностранцам и только 23 % можно, и то большей частью условно, считать собственно российскими[44]. Для сравнения в том же 1870 году в США было выдано 12 157 патентов[45].
По абсолютному количеству выданных в 1912 г. патентов на изобретения Россия отставала от США более чем в 25 раз, от Германии, Франции, Англии в 8–12 раз, в 6 раз от Бельгии и Австро-Венгрии, в 2 раза Швейцарии[46]. На самом деле отрыв был значительно больше, поскольку почти 70 % российских патентов принадлежало иностранцам[47]. В удельных показателях это отставание было огромным, если даже взять только Европейскую часть России, то по количеству патентов на душу населения в 1912 г. она отставала, например, от Швеции в 17 раз![48]
Другим не менее ярким и трагичным примером, являлась социальная отсталость России, которую наглядно передавало положение крестьянства. Говоря о нем, историк А. Керсновский отмечал, что сравнивать положение низших сословий в России и европейских странах было невозможно: «Мы пользуемся термином «рабство», как наиболее точно и правдиво передающим смысл «крепостного права» – термина слишком расплывчатого, как бы «вуалирующего» действительность и дающего даже основания некоторым исследователям сравнивать русскую «барщину» с «барщиной» европейской и пытаться даже искать с ней какую-то аналогию («у нас, мол, крепостное право упразднено лишь в 1861 году, но ведь и в ряде германских земель оно существовало до 1848 года» и т. д.). Сравнение это немыслимо. Вассальные европейские крестьяне принадлежали поместью, русские крепостные являлись личной собственностью помещика. Европейская барщина – остаток феодализма – обязывала крестьянина работать на своего «сеньора» известное количество дней в году в порядке повинности. Вне этой повинности он был совершенно свободен в своих занятиях и поступках, его личность, семья и жилище были неприкосновенны… Русский крепостной, напротив, был рабом в полном смысле этого понятия… Русское рабовладение можно сравнить лишь с американским, только там угнетались негры, а здесь единоплеменники»[49].
Во времена Екатерины II «крепостное русское село, – отмечал В. Ключевский, – превращалось в негритянскую североамериканскую плантацию времен дяди Тома»[50]. Торговля русскими крепостными велась оптом и в розницу: «Если дворяне решают продать своих крепостных они, – писал в 1794 г. П. Шантро, – их выставляют с их женами и детьми в общественных местах, и каждый из них имеет на лбу ярлык, указывающий цену и их специальность»[51].
Как могли иностранцы относиться к России, когда именно ее государствообразующая нация находилась в состоянии рабов, чьих жен и дочерей помещики превращали в наложниц, а их отцов и мужей проигрывали в карты, засекали кнутами… «Я уже отмечал, как возмутительно в России обращение с людьми, – писал в 1800 г. француз Ш. Массон, – Присутствовать хотя бы при наказаниях, которым часто подвергаются рабы, и выдержать это без ужаса и негодования можно только в том случае, если чувствительность уже притупилась и сердце окаменело от жестоких зрелищ…»