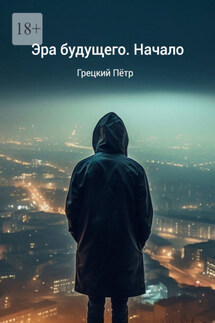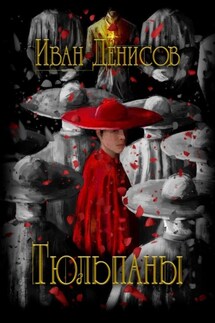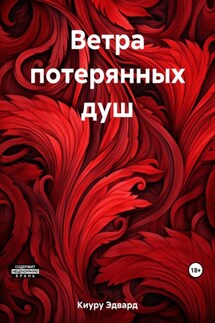Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж - страница 31
Вместе с Будным в несвижской типографии печатал свои работы Василь Тяпинский, переведший Евангелие на беларуский язык. Несвижская типография стала первой в Великом Княжестве Литовском, где использовались шрифты с кириллицей.
Общение с Будным, исповедовавшим в это время антитринтаризм, веру в единого Бога, учение, отвергающее догмат о Троице, не признающее божественное происхождение Иисуса Христа, привело к этому воззрению также беларуского шляхтича, Василя Тяпинского.
«Ярким представителем радикально-реформационных течений и общественной мысли стал Стефан Григорьевич Лован, мозырский, который был вызван в суд по обвинению в отрицании «Бога в Троице единого» и непризнании Христа божественным искупителем человечества. В своих реформационных воззрениях он приблизился к грани, отделяющей религию от философии, и пришел к очень смелым выводам: отрицал существование души у человека, ада и рая, не верил в наступление судного дня и провозглашал идею несотворенности мира, который, по его мнению, возник сам из себя и будет существовать вечно…
По своей социальной сущности идейная оппозиция православной церкви была явлением глубоко прогрессивным. В превратной, религиозной форме она выражала социальный протест широких демократических слоев православного населения Речи Посполитой против официальной феодальной идеологии, выразителем и пропагандистом которой была православная церковь со своей многочисленной армией белого и черного духовенства. Этот идейный протест выражался не только социально-политическими идеями и требованиями, но и всем составом реформационно-религиозной идеологии, которая, отрицая учение официальной церкви, окружившей «феодальный строй ореолом божественной благодати», отрицала тем самим идеологию и культуру господствующего класса» [22].
Кафедры марксизма-ленинизма, вообще говоря, исчезли, но здравые мысли той старой профессуры нам сегодня, ой-как, нужны, особенно в оценках религиозных предпочтений.
Франциск Скарына, Сымон Будны, Василь Тяпински, эти беларусы-литвины создали удивительный культурный фон Великого княжества, они учили веротерпимости, способствовали вхождению общества и его отдельных представителей в общеевропейскую культуру. И, конечно, главной своей задачей, они ставили просвещение народа «литвин-беларусов». Не надо смущаться по поводу того, что часто их слова, тексты их сочинений называют «русскими». Православие «русского извода» не разделяло тогда еще людей на «народы» или «нации», церковнославянский («русский») язык был обязательным для служения в православных церквях. Старобеларуский язык воспринимался, как несколько видоизмененный русский, хотя оба языка одновременно вышли из одного лона старославянского наречия.
Старобеларуский (староукраинский) выполнял свою главную задачу коммуникации со всеми близкими языками славянского окружения.
Собственно, это и дало повод русским историкам, создать свою версию «братства трех народов», не замечая достаточно глубоких различий между ними уже в начале ХV века. Основатели «новой старобеларуской литературы», прекрасно понимали это расхождение в развитии старобеларуского и русского языков из общеславянского корня, и делали попытки воздействия, часто весьма плодотворного, на литературный русский язык.
«Франциск Скорина и Петр Мстиславец, Иван Пересветов и Илья Копиевич, Иоиль Турцевич и Симеон Полоцкий осознавали свои отличия от москвитян, при всяком случае подчеркивали свою этническую самость, что порой вызывало серьезное раздражение в Москве. Являясь новаторами русского языка, они оставались беларусами. И, судя по всему, не ощущали никаких душевных переживаний по этому поводу» [87]..