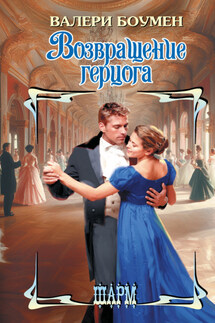Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли - страница 15
Подобное удвоение не удовлетворяет гегелевским требованиям, выражая присутствие страха при уклонении от службы, а именно незамкнутость друг на друге обоих моментов самосознания: самодостоверности и несамодостоверности – источника страха и источения поводов к прислуживанию – господина и раба. Гегель уточняет перспективы дальнейшей нестыковки разомкнутых моментов также и при одностороннем переживании страха, оторванном от момента службы: «Без дисциплины службы и повиновения страх не идет дальше формального и не простирается на сознательную действительность наличного бытия. Без процесса образования страх остается внутренним и немым, а сознание не открывается себе самому».[43]
В общей картине невроза, как служба не овнешняет страх, оставляя сомнение, так и страх не углубляет негативность (существенную как для создания ситуации, так и для ее разрешения), создавая нарочитую запоздалость действий. Лакан называет такой труд подыгрыванием, а Гегель – сноровкой. Проблема промедления получает категориальный статус при раскрытии смысла, в котором употребляется в данном контексте понятие времени. Рабский труд представляет собой заторможенное вожделение, задержанное исчезновение, нечто образующее.
В опыте безуспешной борьбы, – а завершиться иначе она не может по определению, поэтому невротик борется лишь за продолжение борьбы, – было бы в конце концов обнаружено то, что реконструирует в своей идеальной феноменологии Гегель. Присутствие волевого аспекта в отношениях смещает внимание с осознания на простое существование. «Жизнь столь же существенна, как и чистое самосознание… Круг жизни замыкается в следующих моментах. Сущность есть бесконечность как снятость всех различий, сама самостоятельность, в которой растворены различия движения, простая сущность времени, которая в этом равенстве самой себе имеет чистую форму пространства… Это единство есть раздвоение на самостоятельные образования, потому что оно есть абсолютно негативное или бесконечное единство».[44]
В занимающем Лакана случае несовершенного рабства, взятого на себя обсессивным невротиком сверх положенной ему меры, именно негативная сущность единства (временность, смертность) осталась для сознания чем-то внешним, не проработанным целонаправленно, хотя бы под видом вожделенной вещи. Замедленность означает разорванность живого гештальта на господина и раба при полном слиянии их в мертвом пространстве воображения. Ибо смерть и есть та самая пустота, которая представляет собой в чистой логике наличное бытие (или сознание в противоположность для-себя-бытию как самосознанию) самого ничто.[45] Переход «через смерть» в полном осознании не состоится, но постоянно воспроизводится бессознательно. Гегель пользовался для обозначения этого состояния термином «в себе», равнозначным по сути «для иного» и составляющим вместе с ним пару снимающихся друг в друге моментов.
Как Лакан, так и Рикёр – оба считают дискурсы Гегеля и Фрейда в определенном смысле идентичными. Однако определенность этого смысла для них различается; причем становится возможным акцентировать противоположные стороны в развитии содержания сознания, осуществленного феноменологическим методом. Рикёр отмечает для себя и пытается согласиться с тем, что развитие сознания соответствует развитию объективности; напротив того, Лакан спрашивает, каким образом конституирование объекта подчинено реализации субъекта. Контекст Рикёра положителен: самость, взрослость и смертность; Лакан работает в отрицательном контексте: восстановление идентичности и терапия. – Сделанные предположения требуют доскональной