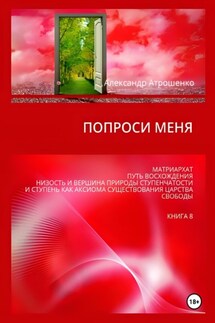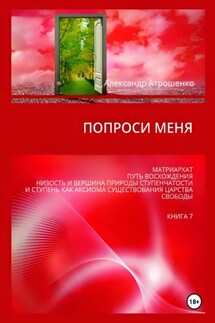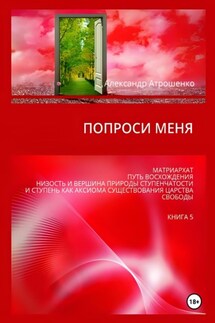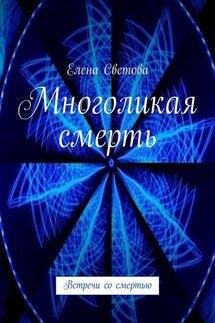Попроси меня. Т. V - страница 6
Религиозные искания и церковные новообразования с начала XVIII в. сосредотачиваются исключительно в диссидентских кругах, среди старообрядчества и сектантства. Великая религиозная и церковная борьба конца XVII в. создала аморфную и еще более хаотичную массу церковных отщепенцев. Проклятые клятвами собора 1667 г. пошли «раскольники» в изгнание, в лесные пустыни и степи родной страны и за польский, и за турецкий рубеж. В изгнании началась дифференциация и кристаллизация различных направлений раскола, сообразно двум главным социальным слоям, на которых раскол базировался: из посадских элементов раскола сложились чисто буржуазные организации, из крестьянских выработались разнообразные формы, и чисто старообрядческие, и так называемые сектантские. Эти последние сливаются с потоком крестьянской «реформацией», – притом реформацией особенного свойства, русского, реформаторского нонсенса, направленного в язычество, – не только не прекратившимся в XVIII в., но получившим еще новую силу под влиянием усиления крестьянского ига. Под казенными неблагозвучными кличками, которыми синодальные миссионеры окрестили различные старообрядческие и сектантские толки, скрывается отнюдь не мертвечина, но необыкновенное богатство народной религиозной мысли и разнообразие церковных форм.
Проще всего и яснее всего стоит вопрос о так называемой поповщине – так называется в официальных документах та ветвь старообрядчества, которая ни одной минуты не могла себе представить, как можно существовать без регулярно совершаемого культа и его квалифицированных отравителей. Старообрядческие общины, придерживающиеся таких взглядов, состояли почти исключительно из посадских элементов. Первая община такого рода и сложилась из двенадцати купеческих семейств, выселившихся из Москвы в Стародубье под предводительством попа Кузьмы от церкви Всех Святых на Кулишках. Но в Стародубье эмигранты остались недолго, т. к. московское правительство не оставило их в покое; вскоре они перешли через польский рубеж и поселились на пустынном острове Ветке посредине р. Сожа (неподалеку от современного Гомеля). Вслед за ними на Ветку переселился целый ряд других купеческих семейств. В колонии переселенцы занимались тем же, чем и в митрополии, и захватили в свои руки нити торговли между левобережной Украиной и Белоруссией. Однако разлагавшееся польское государство не могло охранять вятковских переселенцев от русского правительства: Ветка двукратно подвергалась разорению русскими войсками, и, в конце концов, при Екатерине II прекратила свое существование. Но колонисты Ветки остались теми же купцами и промышленниками и на новых местах, куда пришлось вновь переселиться. Большинство из них подались обратно в Стародубье; там сразу появились торговые слободы и суконная мануфактура.
Другие ячейки «поповщины» находились на Керженце, левый приток Волги. Здесь в пустынной, болотистой и лесистой местности, образовалось 77 раскольничьих скитов, переполненных беглыми попами и монахами. Керженские скиты, находившиеся по соседству с такой важной торговой артерией, как Волга и соседняя Кама, естественно, стали опорным пунктом восточной старообрядческой колонизации. Эмигранты из центра шли на Керженец; крестьяне оставались там, пробиваясь охотой и подсеками, а купцы, захватив с собой попов, шли дальше и постепенно образовали ряд общин по берегам Волги вплоть до Самары. Все речное судостроение и вся хлебная торговля оказались вскоре в руках старообрядцев. С Волги волна старообрядчества пошла по Каме на Урал, там они захватили на заводах торговлю «всеми харчами» и умели проникать на должности ответственных заводских приказчиков.