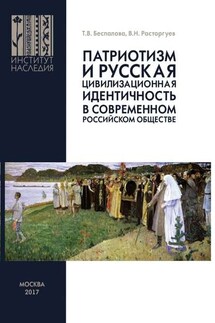Последний бой Пересвета - страница 20
Как видно, Ольгерд увидел в ранении сына некое предупреждение, посланное свыше. Было ли оно послано старыми языческими богами или христианским Богом – для великого князя не суть. И пусть ещё утром Ольгерд хотел стоять под Можайском до победы, но теперь решил не продолжать дела, в котором не предвиделось удачи, а попытать счастья в другом месте – в самом сердце Московии.
– Мы пехоту поставим наперед, и она протопчет путь коням. Нам торопиться некуда, – литовский князь говорил тихо, почти не размыкая губ. В неподвижных его зрачках отражались багряные огоньки, тлеющие в жаровне. – Москва от нас не убежит, а можайский воевода мёртв, и потому его люди не ударят нам в тыл, не осмелятся.
Помолчав, Ольгерд добавил:
– Эк, снегу-то намело! Сатанинская круговерть! В такую погоду и малый след в одночасье исчезнет, и большое войско пройдёт по лесам так, что ни единый сук под копытом не треснет.
Крупное тело Локиса-Миньки сотрясал озноб. Ещё одна ночь в замёрзшем лесу, где едва удаётся угреться под пологом шатра.
Ещё один военный совет. Вокруг крошечного костерка собрались набольшие начальники литовского воинства. Сам Ольгерд, его старшие сыновья, его ближние бояре – все закутаны в меха, все препоясаны кушаками. На этот совет, походный, вожди литовского войска явились во всеоружии, при мечах и кинжалах.
Воинство расположилось на ночлег под заснеженными кронами древней дубравы. Место выбирали долго и со знанием дела – так, чтобы под копытами коней не было подлеска, чтоб ни единый сук не треснул под кованым сапогом. Костров не разжигали, ели промерзший, чёрствый хлеб и вяленое мясо. Ольгердово воинство, привычное к обычаям своего владыки, терпеливо переносило лишения походной жизни. Под красно-белым полотнищем «Погони» они неизменно шли от победе к победе, от награды к награде. Ольгерд Гпдиминович любил свою дружину. Щадил при осадах, не обижал при дележе добычи. Можно, можно потерпеть и пять, и десять дней лишений, если потом внезапно одним хлестким ударом смести вражескую рать, напоить чужую землю тёплой кровью, вознести к небесам высокие костры удалого набега. А потом утечь в родные пределы, к холодным берегам Вилии и Немана.
– Надо лес валить, – заявил Локис-Минька, стуча зубами. – Но эта куща не годится для меня, Ваше Величие. Слишком толстые стволы. Нужна сосна. Высокая, нестарая сосна. Будем ладить снаряд из сосны. Прикажи брянским людям точить топоры, прикажи народ отрядить…
– Станем лес валить, топорами стучать. Шумно, хлопотно, – возразил Дмитрий Ольгердович.
– Да и как тащить лес к Москве, если все кони под седлами? – поддержал брата Андрей Полоцкий. – По глубокому снегу и бескормице кони падут. Спешенные ратники в полном вооружении в снегу увязнут, до начала битвы изнемогут. А ну как Митька Московский рать навстречу вышлет? Как сражаться станем?
– Не вышлет, – подал голос Марзук-мурза. – Митька в городе сидит. Вокруг Москвы пустым-пусто.
– Пустым-пусто? – рявкнул Дмитрий Ольгердович. – Пустым-пусто, татарская твоя душонка? Верно, знаешь? Прозревал в медном блюде?!
Марзук-мурза заерзал, запыхтел. Заботливые руки ольгердова отрока закутали, запеленали татарского царевича в дорогую соболью шубу, надели на бритую голову высокую медвежью шапку, расчесали чёрную бородку костяным гребнем, благовониями не забыли умастить, покормить досыта не забыли. Сидел теперь Марзук-мурза под боком у Ольгерда Гедиминовича кум королю, властелином своим горячо почитаемый, сородичами забытый, литовским воинством люто ненавидимый.