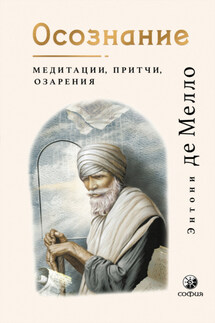Последний закон Ньютона - страница 15
…Так стоишь, думаешь, глупость всякая в голове прыгает. Нужно начинать работать, думаешь, что такое еще придумать, чтобы оттянуть… Ага, вот всплыло интересное. Один молодой парень вдруг узнал, что Бог есть. Это его так потрясло, что он встал на углу и давай проповедовать. Конечно, собралась толпа, и, конечно, половина вращала у виска, пока вторая половина от этого дела отдыхала. Пока конкретный мужчина конкретно подошел и конкретно сказал: «Что ты раздухарился со своим Богом! Да тот, кто изобрел водопровод, сделал для человечества больше, чем все ваши Христы, вместе взятые!» И ему захлопали. А один не захлопал, а сказал конкретному: «Вы совершенно правы. И все же, умирая, я бы предпочел, чтобы рядом со мной был священник, а не водопроводчик».
Я подумал, что тоже этого бы хотел…
Как я ненавидел человечество
Я ненавижу человечество,
Я от него бегу, спеша.
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа!
Один несчастный начала ХХ в.
Автор в молодости неоднократно повторял эти, как ему верилось, глубокие строки. Бывало, как начнет повторять эти глубокие строки где-нибудь за рюмкой кофе или у фонтана; или просто бормоча в весенний воздух: «Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша…» – прямо мороз по коже! Набормотавшись, автор, согласно инструкции, торопился в свою пустынную душу, где садился на лунный камень и сидел там отрешенно минут сорок, практически академический час. Однако по молодости это горькое сидение ему скоро надоедало, и он выходил наружу. Он выходил наружу, как экзистенциальный Стенька Разин, заводил большие пальцы за невидимую распояску, иронично наблюдая за людской тщетой и суетой. При этом в углу его скорбного рта дымила сигарета, а во взоре пылала такая бездна горькой иронии, что правильно было бы держать не распояску, а огнетушитель. Так гордо возвышался автор над муравьиным миром, копя будущие обиды. Было неприятно, правда, что никакая собака не замечает этой бездны иронии, даже не пытается остановиться и оправдаться перед тяжким приговором личности, т. е. автора, которая одна имеет право сказать: идемте, я покажу вам иную жизнь, достойную моего показа!
Так духовно нагоревавшись и отскорбев, автор шел в знакомое кафе на Крещатике, где кооперировался с такими же непонятыми и отверженными. Это кафе есть и сейчас; только тогда там стояли круглые двухъярусные столики. На верхнем ярусе располагались локти и окурки. На нижнем, невидимом для милиции, размещались бутылки портвейна, где на этикетке значилось «777». За что в народе его звали портвейн «три топора». Вы приходили туда, а вокруг столика уже стояло несколько таких же зеленоватых от постоянной иронии идальго. Кто-то представлял вас остальным: это Володя, тоже поэт! Незнакомые вам поэты внимательно смотрели, что и сколько вы ставите на нижний ярус. Удостоверившись, протягивали руки для знакомства и стакан для разлива. Вообще-то автор тогда стихи не столько любил, сколько терпел, ибо так нужно было для пущего счета неблагодарному человечеству. Как у поэта:
Мимо ходят какие-то люди,
Каждый весел, доволен и сыт.
Ничего им поэт не забудет,
Ничего им поэт не простит!
Помнится, была среди тех поэтов одна девушка, поэтесса, какая-то горькая и ужасно курящая. Она всегда была в ореоле выпускаемого табачного дыма, и невозможно было разглядеть, красивая она или просто пьет, не закусывая? Она тоже приносила портвейн и тоже подавала из дыма свой неокрепший поэтический голос. Выпив за знакомство, поэты читали заунывные неразборчивые стихи. Потом играли в игру «балда», на которую тогда подсела кофейная интеллигенция. Курили. Снова читали, играли в «балду» и снова курили. В промежутках пили портвейн и снова читали, забывая, что это уже читано, поскольку пили без закуски. Где-то через час или через месяц некоторые мистически исчезали; на освободившееся место приходили новые, им показывали, куда ставить принесенные бутылки; говорили остальным: «Знакомьтесь, это… Как тебя зовут? Леня?.. Это Леня, тоже поэт».