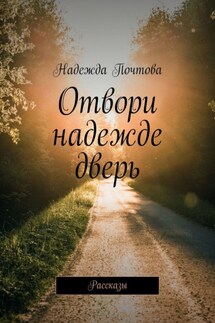Последняя утопия. Права человека в истории - страница 28
Глава 2
СМЕРТЬ ПРИ РОЖДЕНИИ
Вхождение термина «права человека» в английский язык происходило без особой помпы, даже случайно. Он утверждался в качестве вспомогательной составляющей обнадеживающего видения, которое противопоставлялось порочному и тираническому «новому порядку» Адольфа Гитлера. В пылу битвы и сразу после ее завершения сложилось такое представление о послевоенной коллективной жизни, в котором личные свободы органично сочетались со все шире распространявшимися посулами той или иной разновидности социальной демократии; именно этот проект и вдохновлял на борьбу. Однако права человека лишь изредка ассоциировались с отходом от живучих рамок, задаваемых национальным государством, институтам которого, как предполагалось, в послевоенный период предстояло обеспечивать будущую лучшую жизнь. Впрочем, независимо от того, воспринималась ли идея прав человека как принципиальная основа всех послевоенных обществ или же за ней усматривали стремление преодолеть nation-state, она оставалась почти незаметной в публичном дискурсе, отнюдь не напоминая ту «универсальную валюту», какой она сделалась позже. Интересно, что даже принятие Всеобщей декларации прав человека 1948 года в этом отношении ничего не изменило. Закономерен вопрос: почему так получилось?
В глобальном плане подъем прав человека вытеснил более раннее обещание, касавшееся самоопределения народов и зафиксированное в начале войны в Атлантической хартии 1941 года. Довольно скоро после ее принятия стало понятно, что союзники стремятся к тому, чтобы основные принципы послевоенного мироустройства были бы полностью совместимыми с прежним имперским порядком. При этом даже на их североатлантической родине, не говоря уже о втором эшелоне в лице государств Латинской Америки, Австралии и Океании, новый концепт не слишком приживался. Поначалу, представляясь расплывчатым синонимом некой социальной демократии, понятие прав человека вовсе не касалось по-настоящему насущного вопроса о том, о какой ее разновидности идет речь: о капитализме с элементами социального обеспечения (welfarist capitalism) или же о полноценном социализме. Позже, к 1947–1948 годам и к началу холодной войны, Западу удалось присвоить лексику прав человека, использовав ее в «крестовом походе» против Советского Союза; в ту пору главными пропагандистами этого языка стали европейские консерваторы. Иначе говоря, не сумев в середине 1940‐х предложить какие-то альтернативные опции, идея прав человека оказалась всего лишь дополнительным оружием в руках одной из сторон, столкнувшихся в холодной войне. Использовавшие этот концепт ни на секунду не связывали его с радикальным разрывом или решительным преодолением той структуры государств, которую создала Организация Объединенных Наций.
Какими предстанут 1940‐е, если мы попытаемся очистить их от наслоений распространенного мифа, согласно которому эта эпоха представляла собой что-то вроде «пробного прогона» мироустройства, призванного сменить холодную войну, – порядка, в котором бытование прав человека начинало демонстрировать хотя бы зачаточное утверждение разновидности верховенства права, способной подчинить себе nation-state? Иначе говоря, что будет, если переписать историю 1940‐х с учетом более поздних событий, опираясь на принципиально иной набор причин, которые предопределяли бы нынешние смыслы прав человека и их основополагающее место? Ответ на этот вопрос довольно прост. Конечно, попытка переосмыслить Вторую мировую войну и ее последствия, желая обнаружить в этих событиях важнейшие предпосылки прав человека в нынешней их трактовке, выглядит заманчиво – но, к сожалению, она ни к чему не приведет. Права человека предстали всего лишь заменителем того чаяния, которое в те времена вдохновляло миллионы обитателей нашей планеты: а именно коллективного права на самоопределение. Ибо подданные колониальных империй не слишком заблуждались, видя в этой идее своего рода утешительный приз. Применительно же к англосаксонским и европейским государствам, а также к странам второго эшелона, где дискурс прав человека добился хотя бы минимальной публичности, истоки прав человека приходится разыскивать в том контексте, который определялся не их грандиозным провозглашением, а их вопиющей маргинальностью.