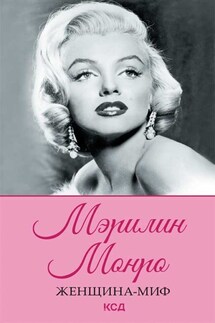Постдок-2: Игровое/неигровое - страница 12
Романный персонаж (из «Небесной гармонии») перевоплощается сначала (в документах) в реальный и непредставимый, но – уже в постдокументальном романе – в сюр(сверх)реальный, то есть невообразимый, в котором, однако, ничего нет фиктивного.
«Я все воспринимаю как форму. Только формой на этот раз я избрал, вынужден был избрать (гражданскую) искренность, и, как следствие, реальностью считаю так называемую реальность (а не язык) и буду ей верен ‹…›» (с. 58). А это (в том числе) означает, что не пройдет («не проходит») ни идея самооправдания информаторов, ни «тема „как я разлагал органы изнутри“» (с. 59). Мотивы, могущие объяснить «падение» отца, не срабатывают; они не связаны ни с опасностью для жизни, ни с необходимостью выживать. «Он не был обязан становиться агентом. Ему нет оправданий. Оправдывать его я не собираюсь. Мне это было бы неприятно» (с. 78).
Эстерхази действует с единственной целью: «против забвения» (с. 61). И – против самообмана. Эта история (его отца) свидетельствует о том, «что страну невозможно разделить на чинивших несправедливость и несчастных страдальцев. Это большой и живучий национальный самообман»[10] (с. 66).
Семейная история, даже «достойная» (как в романе «Небесная гармония»), неотделима от истории страны, включая гэбэ. Это новое понимание, отвращая от отца, сближает с ним еще небывалыми душераздирающими узами. Сын протягивает руку отцу, подставляет плечо, не в состоянии бросить «на произвол судьбы» (с. 71). Эту связь Эстерхази доводит до нестерпимой ясности. Она же ведет не только к обморочному состоянию писателя, которое порой сменяется тупым безразличием, но к его внеэстетической практике: к работе Эстерхази над собой, а не только над комментарием документов или дневником.
Фундамент постдокументального романа – этика взгляда.
«Господи, как было бы хорошо, если все это я просто выдумал бы. В смысле поэтики все в порядке: non fiction в качестве fiction и проч. Пусть все это будет плодом (гениальной) фантазии. Смелой идеей. Правда, с нравственной точки зрения идеей сомнительной – но за все ведь надо платить» (с. 82). И платить отчаянием.
Радикальность «Исправленного издания» не в том, разумеется, что non fiction фантастичнее fiction, но в ином отношении к non fiction, требующем пересмотра всей картины мира; перемены персональной и писательской участи.
Внутренней необходимостью этой работы с документом и над собой становится невыносимая любовь к отцу. Поэтому «Исправленное издание» – роман о любви, фантастический в своем будничном реализме.
Образ отца в двух романах претерпевает изменения. Герой с трудным достоинством в «Небесной гармонии» превращается в свой недостойный прототип, а прототип – в освобожденный от «пустых фантазий» персонаж (или «казус» – «был отцом, а стал казусом» (с. 79)). «Папочка, дорогой, я уже не способен смотреть на тебя как на реально существовавшего человека. Ты как будто явился ко мне из романа, из дрянного (дерьмового)» (с. 94).
Эстерхази переворачивает бинокль: «Небесную гармонию» начинает воспринимать «как подлинную реальность» (с. 95), удовлетворяя свое наивное читательское «я» («‹…› эх, плакало наше доброе постмодернистское имя!» (с. 95)). И находя в нем утешение, причем столь же реальное, как в трагической безутешности «Исправленного издания», объятого страхом его автора, что он (после своего «Освенцима») не сможет написать ни строчки.