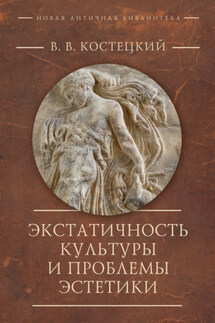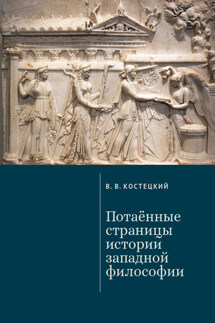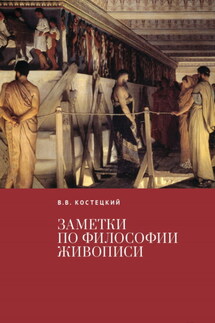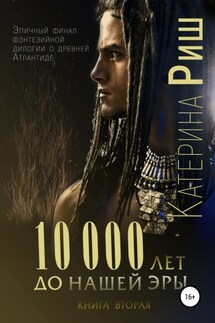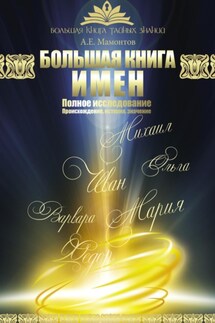Потаённые страницы истории западной философии - страница 39
Л.Я. Жмудь в своих выводах, конечно, не голословен: он доказателен с точки зрения источниковеда. Десятилетия после смерти Пифагора о «числах» никто не слышал, открытие иррациональности чисел Пифагору приписали, слово «космос» придумал не он, в Египте он не был, чудес не творил, а шаманизма в Элладе не было и в помине. «И для пифагорейской аристократии, правившей в Южной Италии, – писал Жмудь, – и для религиозно-этической доктрины пифагореизма с её проповедью гармонии, умеренности и самообладания, с постоянным подчеркиванием роли традиционных богов и героев, нет ничего более чуждого, чем экстатический культ» [Жмудь, 1994, с. 131]. Довольно трудно поверить, что уважаемый антиковед не знает о Дельфийских оракулах, о дионисизме в Элладе. Даже Э.Доддс, весьма далёкий от антропологии, замечал, что «традиция пророческого неистовства в Греции не менее архаична, чем религия Аполлона» [Доддс, 2000, с. 108]. Конечно, если понимать под шаманизмом культы, аналогичные сибирскому шаманизму (а именно так поступает Л.Я. Жмудь), то такого шаманизма в городах Эллады не было. А вот техника шаманизма в виде экстатических практик была в Элладе всегда: и пророчества были, и храмовая медицина, и чудеса, в том числе от Пифагора.
Для реконструкции философии Пифагора – при знании экстатических практик у разных народов мира – достаточно немногих свидетельств: требование «чистоты» и воздержаний в образе жизни, обращение к музыке и танцам в теории, наличие историй «о чудесах». При сохранении письменных источников в виде цитат и известного «влияния» на последующую философию, реконструкция приобретает вполне правдоподобный характер. О «влиянии» Пифагора на потомков Л.Я. Жмудь сам пишет красноречиво: «По влиянию на мыслителей последующих эпох, вплоть до Коперника и Кеплера, Пифагор может соперничать даже с Сократом и Платоном, далеко превосходя их предшественников» [Жмудь, 1994, с. 8]. Если «влияние» известно, то уже нет непреодолимых препятствий для реконструкции.
С точки зрения философии, а не истории философии или, тем более, источниковедения, философия Пифагора выглядит вполне системно. Есть своя онтология: космос музыкален, природа хореографична. Есть своя гносеология: не пресловутые чувства и разум, а эмпатия, симпатия, синергия, визионерство. Есть своя эстетика: эвритмия в творчестве и произведениях культуры. Есть этика: очищение от дурных страстей, аристократизм ума и общения. Есть политология: не формы власти бывают дурными, а люди во власти. Если учесть, что Пифагор жил на двести лет раньше Аристотеля, то вряд ли стоит жаловаться на то, что реконструкция философии Пифагора маловероятна. Так и реконструкция философии Аристотеля еще не закончилась. В свое время Г. Лейбниц высказывал пожелание «пора понимать Аристотеля»; то же можно сегодня повторить как в адрес Аристотеля, так и в адрес Пифагора.
Парменид в тени философии
«…понятие “бытия” самое тёмное…»
М. Хайдеггер
Интересно, что современники называли Гераклита Тёмным – за стиль изложения. Между тем, самым «тёмным» мыслителем античности был его ровесник Парменид – за стиль мышления. У Парменида стиль изложения даже в виде поэмы обращен к логическому мышлению, не к чувствам. Его ученика (Зенона Элейского) Аристотель назвал «изобретателем диалектики», утаивая, что первым «изобретателем логики» можно было бы назвать Парменида. Очевидно, Аристотель пожелал за собой сохранить этот титул, что тоже справедливо.