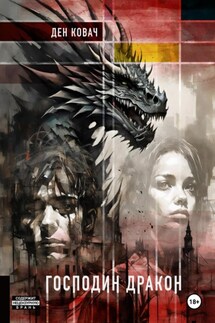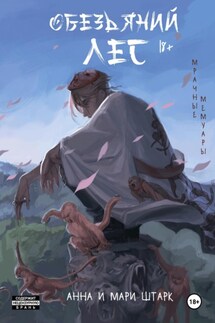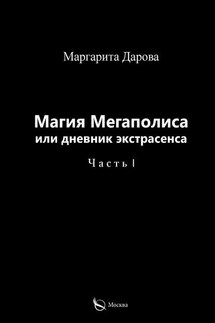Потомок Рода - страница 9
В самом сердце стола источал пленительные ароматы зажаренный до золотистой корочки поросенок с румяным яблоком во рту. Замаринованную в брусничном соке тушку нафаршировали гречневой кашей со сливочным маслом и лесными грибами, искусно зашили ниткой и томили на вертеле. Поданный на огромном блюде, поросенок царственно дымился на подушке из той же каши, украшенной свежей зеленью. Также кормили нежным кроликом, тушеном в сметане, вяленой и запеченной рыбой – лещом, окунем, судаком, и даже стерлядкой, на которую не поскупились. В изобилии присутствовали овощи и фрукты, золотистые пшеничные лепешки и прочие яства. Запивали все это великолепие хмельной медовухой и терпким вином, а те, кто чурался алкоголя – соками и компотами.
Пир – неотъемлемая часть любого уважающего себя реконструкторского фестиваля. В Древней Руси это была не просто трапеза, а целое событие, ритуал. Князья, бояре, дружинники собирались, чтобы отметить победы в ратных делах, заключение мирных договоров, отпраздновать религиозные праздники. Важную роль играли здравицы и тосты, возносимые в честь богов и предков. Сказители услаждали слух гостей былинами о подвигах славных героев. За пиршественным столом решались вопросы политики, заключались союзы, укреплялись связи между князем и его верными воинами. Это было время демонстрации щедрости правителя и преданности его подданных. Поэтому ни один наш выезд не обходился без такого славного застолья.
– Вздрогнем, братцы! – прорычал Святослав, не выходя из образа, и поднял над головой братину, полную медовухи.
Князь, он же Сергей Боярский, один из отцов-основателей самарского реконструкторского движения, одним махом осушил немалых размеров шарообразный сосуд, щедро оросив напитком свою бороду и расшитую свиту, надетую поверх рубахи. Вот уж точно, по усам текло, да в рот не попало. Хотя в данном случае еще как попало! Смотреть на Серегу, облаченного в пиршественный наряд, было почти физически некомфортно, словно тебя самого укутали в тулуп. В такую жару, по-моему, можно и не следовать историзму столь досконально. Но Боярскому нипочем ни зной, ни мороз, ни влага. Знаю я таких реконструкторов – трушных до мозга костей. Вживаются в образ до последнего, одеваются и говорят на старинный лад, пока не вернутся домой. И только там, в тиши городских квартир, потихоньку возвращаются в лоно цивилизации.
Как-то раз на фестивале повстречал я мужика, изображавшего знахаря. Ковылял он по лужайке, опираясь на посох, шею его обвивало ожерелье из грибов и птичьих когтей. Длинные, до груди, волосы он выкрасил в серебристо-белый цвет, чтобы походить на седого старца. За плечом висела холщовая сума, полная трав и кореньев. Весьма колоритный персонаж. Так он и бродил в своем обличье до самого закрытия фестиваля, а потом ловко запрыгнул в зеленый джип и, не переодеваясь, умчал прочь. Слышал я потом от знакомых, что его остановили на посту ДПС. Инспекторы, увидев за рулем эдакого русского Гэндальфа, должно быть, немало удивились. Само собой, предложили пройти медицинское освидетельствование, подозревая, что грибочки водитель не только на шее носил, но и внутрь употреблял. Долго ему пришлось убеждать блюстителей порядка, что он не наркоман, а высокооплачиваемый адвокат по уголовным делам.
К чему я это вспомнил? Да к тому, что во всем нужна мера и иногда стоит прислушиваться к голосу разума. Серегу, впрочем, все устраивало, равно как и хана Кобяка в исполнении Миши Старцева. Они сидели во главе стола, обнявшись по-братски, и заливисто хохотали, оба изрядно раскрасневшись от щедрых доз ультрафиолета и выпитого алкоголя. Я и сам с удовольствием прихлебывал пряное вино из кубка, наслаждаясь вкусом тушеного кролика. Боярский вновь поднял братину, готовясь произнести тост.