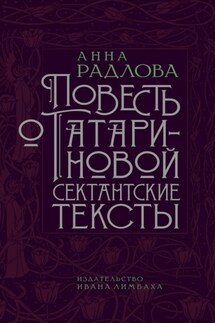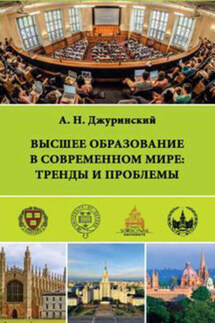Повесть о Татариновой. Сектантские тексты - страница 11
Тем не менее, аргументы Чудовского стоит проследить; их разделяли тогда и Радлова, предпочитавшая не доводить своих взглядов до теоретических формул, и Кузмин. «Мы носители трагического опыта, какого не имели ни отцы наши, ни деды <…> Трагедия возвращает нам юную цельность далеких предков», – объявлял Чудовский. Анахроничные интересы самого современного из поэтов оправдываются характером эпохи, когда воскрешают идеи предков; именно поэтому созданные ими слова, такие как любовь и кровь, возвращаются к своим исконным значениям. Писать этими словами – не формальный прием, а прямое выражение чувств, незаменимое на пике истории. Врагами этой «мощной поэтики духовного активизма» объявляются формалисты и их понимание искусства. «И тогда говорят: „Искусство и есть прием – только прием.
Искусство есть игра“ – О, скоро вы ее поймете и оцените, игру тех, кто глядел в упор на нависшую гибель любимых <…> Семь лет! Да, мы купили право верить – и не только играть», – восклицал Чудовский в 1921 году[38]. Теоретические противники обвиняются в грехе действительно тяжком – в эмоциональной нечувствительности, в отрицании трагедии; на смену их лидерству должны прийти другие люди, образцом для которых станет творчество Радловой. «Да, совсем новые теории придется нам создавать… Если неправ я, то русский народ недостоин ниспосланных ему испытаний», – с полной прямотой писал критик. Так круг эмоционалистов, вдохновителями которого были Кузмин и Радлова, пытался участвовать в центральных дискуссиях эпохи[39].
Высшая оценка, данная поэзии Радловой Кузминым, породила бурные возражения; больше других уязвлены были почему-то поклонники Ахматовой, на стихи которой сборники Радловой сегодня кажутся совсем непохожими. Критики Радловой ставили ее в позицию неудачливой претендентки: «…в ее стихах есть нечто от Анны Ахматовой; но можно сказать, перефразируя известную поговорку: „Анна, да не та“», – писал Э. Ф. Голлербах в рецензии на «Корабли»[40]; рецензент наверняка не сказал бы так о поэте с мужским именем. Мариэтта Шагинян и Георгий Адамович посвятили возмущенные рецензии не столько стихам Радловой, сколько их оценке Кузминым. Радлова вторична, она заимствует свои озарения у Иоанна Богослова, Шекспира и хлыстов – таков смысл этих отзывов; а Кузмин, ценя эти «стихотворные радения», потворствует дурному вкусу[41]. Резкость Чудовского понятна только в контексте полемики, которую вызывали среди современников стихотворные сборники Радловой начала 1920>-х годов[42].
В устных воспоминаниях Ахматовой корни ее взаимной вражды с Радловой были такими: «Дружба Кузмина с Гумилевым, потом резко оборвавшаяся <…> Роль Анны Радловой в этом отчуждении»[43]. Позднее Ахматова считала, что Радлова сотрудничает с НКВД. Когда Корней Чуковский написал в «Правде» (25 ноября 1939) критическую статью о переводах Радловой, Ахматова предупреждала его об опасности и называла Радлову «жабой»