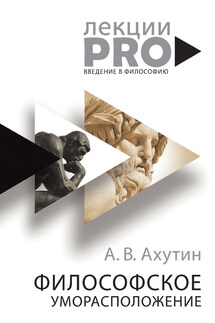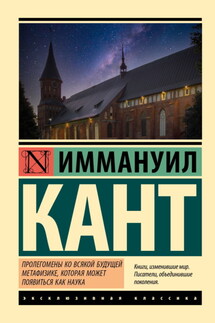Поворотные времена. Часть 2 - страница 48
Ho остановимся здесь на минуту. Нам важно уяснить одну уже явно наметившуюся трудность, касающуюся самой историко-научной концепции.
Понятие «замкнутой теоретической системы», как, верно, уже заметил читатель, страдает двусмысленностью. Что, собственно, значит «замкнутость» этих систем? Их независимость и рядоположенность или же их «вложенность» друг в друга по степени общности, когда более универсальная система очерчивает пределы и границы применимости предшествующей, лишь казавшейся универсальной системы? Словом, как соотносятся друг с другом замкнутые системы?
Возьмем для сравнения более однозначную историко-научную концепцию, скажем концепцию «Эволюции физики», благо мы уже частично ее представили.
3. СООТВЕТСТВИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ КАК ИСТОРИКО-НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Развитие физики – это эволюция, «рост идей». Эволюция эта, разумеется, не так проста, как кажется историку-индуктивисту. Научное творчество питается двумя источниками: экспериментальным вопрошанием природы и независимой работой конструирующего и систематизирующего ума. Эксперимент наводит на мысль, но не порождает ее. Он и наводит на мысль только потому, что мысль его спроектировала. Самостоятельно теоретизирующая мысль формулирует новые вопросы и проектирует новые эксперименты, которые со своей стороны могут поставить под вопрос теоретическую идею. Ho магистральная линия развития – последовательное развитие теоретической идеи, создание системы, охватывающей все более широкий круг явлений все более простыми основополагающими принципами. Образ истории науки, доминирующий не только в «Эволюции физики», но и во всей философии науки Эйнштейна, в особенности со времени разработки общей теории относительности, – это образ восхождения на вершину горного хребта, достижение точки зрения, с которой видны границы предшествующих теорий и весь «рельеф» пути. Историческая связь теорий выражается универсальным принципом соответствия. В результате возникает та концепция «вложенности» предшествующих систем в более общие, которая представлена, например, так называемой эрлангенской программой в физике.166
Правда, анализируя квантовую механику, авторы «Эволюции физики» замечают, что дело здесь сложнее. При описании, например, световых явлений мы вынуждены пользоваться двумя исключающими друг друга картинами реальности, рассматривать эти явления как бы стереоскопически, с двух принципиально различных точек зрения. Более того, Эйнштейну было ясно, что и структура общей теории относительности при таком повороте подобна структуре квантовой теории. Ведь геометрия реального пространства-времени определяется с помощью закона преобразования, связывающего разные, локально определенные псевдоклассические геометрии, представляющие пространственно-временные характеристики возможной экспериментальной ситуации (наблюдения, измерения). Такое отношение между экспериментом и теорией, соответственно между классической физикой и неклассической не нарушало еще, по мнению Эйнштейна, классического идеала теоретического знания в отличие, например, от принципиальной статистичности квантовомеханических законов.