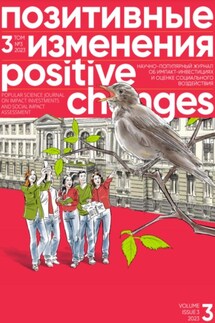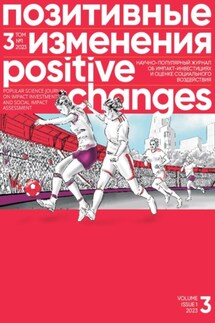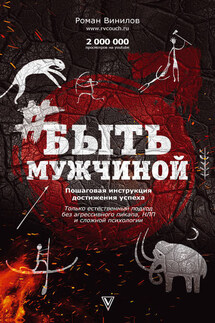Позитивные изменения. Тематический выпуск «Экономика будущего» (2023). Positive changes. Special issue «The economy of the future» (2023) - страница 25
В условиях все более очевидной ограниченности ресурсов на Земле, освоение космоса – способ избежать риска «окукливания» экономики и социальной жизни общества, и принесения развития в жертву неправильно понятой стабильности.
При рисках наступления, условно говоря, состояния «японизации» экономики, о котором говорилось, когда уже расти будет больше особо некуда, космос станет новым полем для экономической экспансии, предполагающей вовлечение значительного объема материальных ресурсов – металла, энергии и т. д., теперь уже в «космических» масштабах.
Василий Буров: Про космос полностью согласен, а первые два тезиса мне кажутся весьма спорными. Как раз экономически все основные участники Первой мировой войны имели явные системные проблемы, которые и решали с ее помощью. Я бы все же сказал, что это зависит не от прямого ВВП на душу населения, а от того, как все качественно устроено, как себя люди ощущают.
Но гораздо больше меня волнует история про педагогическую утопию. На самом деле, в педагогике есть бесконечное количество новых вещей. Россия попыталась вырваться из застоя в этом отношении в начале XX века и породила многое, на что сейчас опирается передовая мировая педагогика, – те же Выготский и Макаренко. На Макаренко до сих пор базируется все корпоративное управление HR и обучение. Следующий рывок был в 1960-е, 1970-е, 1980-е, когда появились педагоги-инноваторы[9]. Дальше концепции начали выходить в жизнь. Потом снова был спад, но на уже выработанные давным-давно концепции до сих пор опирается весь мир.
Сейчас для всех, кто серьезно понимает педагогику, главной становится история про стыковку педагогики с современными информационными реалиями – искусственным интеллектом, информационными технологиями. Особенно, в ситуации, когда учебные заведения теряют монополию на знания. Как это преодолеть? В отличие от экономики, в которой можно что-то преодолеть прыжком, в педагогике такое малореально. Слишком многое завязано на психологии, на системе «человек-человек».
Владимир Вайнер: На что же нужно направлять фокус внимания, чтобы приблизить будущее, которое нам нравится, если это, вообще, возможно? С одной стороны, если гуманизация – необратимый процесс, тогда не нужно ничего специально предпринимать, все придет само. С другой стороны, если каким-то образом можно приблизить этот момент, почему бы не сделать это?
Кирилл Игнатьев: Коллеги сказали, что будущее связано с безграничными просторами космоса. Это совершенно верно, работа в дальних мирах неизбежна. Есть как минимум три «космические задачи»: скорость перемещения в пределах ближнего космоса для сверхбыстрых перелётов, ресурсы, которые на Земле в какой-то момент будут исчерпаны, удешевление наземных проектов связи и аналитики.
Новые ресурсы нам понадобятся и потому, что мы даже в высокоразвитых странах перейдём от сокращения к устойчивому росту населения. Технологии биотеха, медицины и генной инженерии приведут к росту продолжительности жизни именно в передовых государствах. Будет больше пожилого населения, долгая жизнь которого положительно компенсирует невысокую рождаемость.
На мой взгляд, особенности человеческого мира, в котором мы живем и будут жить последующие поколения, заключаются в том, что всегда, все время, вне зависимости от уровня развития, был один превалирующий главный стимул развития и человека, и экономики. Этот стимул называется «счастье». Оно может достигаться через любовь, секс, богатство, победы, через многое другое. И когда мы говорим о том, в чем будет главный стимул будущего, надо понимать, что он не изменится. Изменятся формы отношений, в том числе экономических, только и всего.