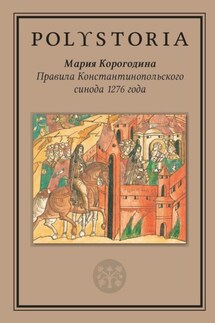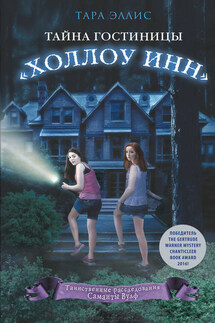Читать онлайн Мария Корогодина - Правила Константинопольского синода 1276 года
© Корогодина М. В., 2025
Рецензенты:
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра религии и церкви Церкви Института российской истории РАН
Елена Белякова;
кандидат исторических наук, доктор филологических наук, профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
Андрей Виноградов
Предисловие
Исследование постановлений Константинопольского синода 1276 г. является частью целостного изучения канонического права на Руси и тех изменений, которые претерпевало богослужение и административное устройство Русской церкви в XIII–XIV вв. Изучение этого памятника было начато более ста лет назад замечательным знатоком истории русского богослужения и церковного права Алексеем Степановичем Павловым (1832–1898), который открыл многие неизвестные ранее рукописи и разыскал греческие источники ряда русских богослужебных и юридических сочинений. Трудами А. С. Павлова был подготовлен к изданию 6-й том «Русской исторической библиотеки» (1880), в который вошел наиболее полный свод посланий и постановлений, связанных с Киевской митрополией до XVI в. и принадлежащих русским и греческим иерархам. Этим изданием современные исследователи продолжают пользоваться до сих пор, поскольку со времен А. С. Павлова многие опубликованные им тексты не удостоились ни нового критического издания, ни специального исследования. До недавнего времени такой же была судьба постановлений Константинопольского синода 1276 г., относительно которых наиболее значимые выводы были сделаны А. С. Павловым в краткой аннотации к 6-му тому «Русской исторической библиотеки». Это заставляет меня посвятить данную книгу памяти А. С. Павлова, русского историка и канониста.
Некоторые наблюдения, ставшие ключевыми для данной темы, были опубликованы в виде статей в ходе работы над исследованием. В книге они представлены в отчасти переработанном виде. Привлечение рукописных материалов, хранящихся в разных городах, было бы невозможным без сотрудничества с А. В. Дорониным и Т. И. Афанасьевой в рамках возглавлявшихся ими проектов. Исследование, требовавшее знаний из таких областей, которыми ранее мне не приходилось заниматься, не могло быть проведено без помощи многих друзей и коллег, отвечавших на мои вопросы и исправлявших ошибки, помогавших найти копии недоступных мне рукописей и снабжавших необходимой литературой. Бесценную помощь в поиске греческих списков мне оказали Ежи Остапчук (Варшава) и Николаос Хрисидис (Нью-Хейвен), а в работе с греческим текстом – З. Е. Оборнева. Большое значение для исследования имело обсуждение в Институте русской литературы (Пушкинский Дом). Особую благодарность я испытываю к рецензентам: Е. В. Беляковой и А. Ю. Виноградову, советы и критика которых помогли мне более ясно сформулировать свою позицию или исправить погрешности. Отдельная благодарность моим коллегам в Отделе рукописей Библиотеки Российской академии наук за поддержку, терпение и помощь в завершении работы.
Введение
История церковного права на Руси неизменно привлекает пристальное внимание исследователей. Основным масштабным сводом церковных и светских постановлений являлась Кормчая книга, появление которой в русских землях следует общим тенденциям книжной культуры в Slavia Orthodoxa, предполагавшим не прямую правовую зависимость от Византийской матери-церкви Русской митрополии, а опосредованное следование византийским правовым нормам, распространявшимся на всю территорию православной ойкумены. При этом Кормчие книги включали значительное число текстов, не связанных с русской действительностью, что заставляло воспринимать весь свод в качестве компендиума, описывающего идеальную структуру и систему управления православной церковью и государством, а не в качестве практического руководства к совершению церковного и гражданского суда [Корогодина, 2017а, т. 1, с. 535–537].
Наиболее насущные и животрепещущие вопросы, неизбежно встававшие перед русским духовенством, нередко решались не с помощью объемной и трудной для понимания Кормчей книги, а через личное обращение к знающим и заслуживающим доверия иерархам. Именно это привело к появлению ряда «вопрошаний» – текстов, включавших ответы архиереев на задаваемые им вопросы и восходящих к византийско-славянской традиции «вопросоответов». В некоторых случаях в тексте сохранялись только ответы, без вопросов, однако первоначальная структура «вопрошания» все равно прослеживается. К этому жанру относятся ответы митрополита Киевского Иоанна II; «Вопрошание Кириково»; постановление епископа Новгородского Ильи и Белгородского епископа; правила митрополита Киевского Георгия; ответы митрополита Киприана на вопросы игумена Афанасия [РИБ, т. 6, стб. 1–62, 75–78, 244–270; Турилов, 2004; Баранкова, 2012]. Эротапокритический жанр позволял найти решения для тех ситуаций, которые не рассматривались в имевшихся на Руси книгах. Поднимавшиеся в таких текстах вопросы непосредственно касались специфики русской действительности и наиболее живо отражали реалии русской жизни, в отличие от переводных постановлений Кормчей книги, опиравшейся на реалии далекого региона и иной эпохи, что неизменно создавало сложности для русских иерархов. В перечисленных выше сочинениях, за редкими исключениями, вопросы и ответы исходят из одной языковой и культурной среды, так что вопрошающий и отвечающий понимают друг друга наиболее точно.
Вопросы, задававшиеся авторитетным архиереям, касались не только церковного права, но богослужения и повседневной жизни мирян, иночествующих и клириков, то есть тех ситуаций, которые не описывались в богослужебных книгах, содержащих лишь краткие уставные указания. Сведения о том, как именно должно совершаться богослужебное последование в тот или иной день, какую роль при этом выполняет каждый участник богослужения, как поступать в сложной ситуации, передавались из уст в уста при обучении клира. Без сомнения, устная традиция, хранителем которой выступал архиерей, имела во многом решающее значение в домонгольский период: обстоятельства совершения исповеди или хиротонии и иных таинств и последований, в том числе задававшиеся во время совершения обряда вопросы и произносимые наставления и обеты – все это не было описано в богослужебных книгах и, очевидно, оставлялось на усмотрение священника или архиерея. Стремление зафиксировать решения по конкретным вопросам позволяло в некоторой степени сократить разнообразие церковных практик. С другой стороны, подобные ответы, при всей авторитетности архиерея, высказывавшего свое мнение по тому или иному поводу, все же не расценивались как непогрешимые, что позволяло со временем возвращаться к разбору сложной ситуации.
С жанром «вопрошаний» сближаются постановления соборов, отвечавших на вопросы русских иерархов: Владимирского (1273) и Константинопольского (1276). Падение Константинополя в 1204 г. отозвалось в славянских землях неожиданным образом. Упадок, в который пришел Константинопольский патриархат, вынужденный на десятилетия переместиться в Никею, лавирование между политическими интересами разных государей, борьба с надвигающейся унией с Римом, а потом ее принятие, – все это способствовало усилению самостоятельности славянских церквей, находившихся на окраинах византийского мира. Несмотря на сопротивление Константинополя, переживавшего тяжелейшие времена, в конце XII в. от Охридской архиепископии отделилась Тырновская епископия, а в начале XIII столетия образовалась Сербская архиепископия, независимая от Константинополя. Это привело к бурному росту церковного строительства в славянских землях, одним из результатов которого стал перевод в Сербии византийского канонического сборника с толкованиями, получившего название «Законоправило» [Троицки, 1952; Щапов, 1978].
Нашествие Орды на русские земли в середине и второй половине XIII в. привело к серьезным проблемам в управлении Русской церковью. Степень разорения была далеко не однородной, и церковная жизнь не замерла в Северо-Восточной Руси. Однако в результате нашествия многие священники погибли, а церкви были разорены: одни сожжены, другие осквернены. Даже если храм уцелел, без повторного освящения в нем нельзя было служить. Освящение храма относится к наиболее торжественным церемониям, часто приурочивавшимся к церковным праздникам, и сопровождается перенесением святынь [Лаушкин, 2023]. Такое освящение могло быть совершено самим епископом, возглавлявшим данную епархию, или священником по благословению епархиального архиерея. Без особого разрешения епископ из соседней епархии не имел права освящать новую или старую оскверненную церковь, как и рукополагать иереев не в своей епархии. Между тем из-за исчезновения большинства архиереев многие епархии оказались в безвыходной ситуации: без епископа некому было освятить церковь и рукоположить священника.
Помимо прочих бедствий, которые повлекло за собой монгольское нашествие, исчезновение архиереев означало, что не осталось никого, кто мог бы ответить на вопросы, не рассмотренные в книгах, в деталях научить и объяснить, как совершаются те или иные действия, как служат по особым праздникам. Не осталось тех, кто мог бы обеспечить возобновляемость церковной традиции. Можно полагать, что именно по этой причине наиболее сложные вопросы в разгар монгольского нашествия пытались решить не привычным способом – вопрошая одного наиболее авторитетного иерарха, а коллегиально, по крупицам собирая то знание, которое было растеряно в огне войны. Архиереи надеялись соборно решить некоторые вопросы, ответы на которые отсутствовали в книгах. Те вопросы, которые не могли решить русские епископы, были поставлены перед Константинопольским синодом; как будет видно далее, на рассмотрение греческих иерархов были представлены в том числе некоторые спорные ситуации, решение по которым уже было вынесено во Владимире несколькими годами раньше.
После разгрома Батыем Киева во главе митрополии встал митрополит Кирилл II. Его положение в Русской церкви было особым, поскольку он стал единственным для XIII в. митрополитом русского происхождения, знакомым и с хитросплетениями княжеской политики, и с проблемами церковного управления. Его предшественник, митрополит-грек Иосиф исчез в 1240 г. во время разорения монголами Киева; погиб ли он или бежал, но Киевская митрополия осталась без главы. В это же время овдовел Константинопольский патриархат, пребывавший в Никее и переживавший тяжелые времена. В переговорах о церковной унии между Римским престолом и Константинопольским патриархатом, начавшихся в 1230-х годах, активное участие принимали как некоторые русские князья, так и русский архиепископ Петр, который, по мнению А. В. Майрова, был ставленником владимирского князя Ярослава Всеволодовича и претендовал на митрополичью кафедру после исчезновения митрополита Иосифа. Так, фактическим главой Киевской митрополии архиепископ Петр воспринимался в 1245 г. в Лионе на переговорах о церковной унии [Майоров, 2019б]. Однако патриарший престол пустовал до 1244 г., поэтому долгое время новый Киевский митрополит не мог быть рукоположен, и вопрос о будущем главе митрополии оставался открытым.
Соперником архиепископа Петра стал Кирилл, печатник волынского князя Даниила Романовича, хиротонисанный на Киевскую митрополию в конце 1246 г. [Майоров, 2019а, с. 139–140] и остававшийся главой Русской церкви на протяжении 35 лет. Уроженец галицко-волынских земель, ставленник волынских князей, в качестве митрополита Кирилл, насколько известно из летописных известий, мало внимания уделял западным епархиям. Его деятельность в наибольшей степени была связана с Северо-Восточной Русью и с важнейшими проблемами Русской церкви: созданием новых епархий на востоке митрополии, реформированием богослужения и церковного управления. В 1262 г. митрополит Кирилл обратился с просьбой к видинскому деспоту Иакову-Святославу с просьбой прислать список неизвестного на Руси канонического сборника – и получил «Законоправило», или Сербскую редакцию Кормчей книги [Щапов, 1978, с. 146–152; Корогодина, 2020б; 2024]. Знание славянской книжности и понимание особенностей местной церкви позволило митрополиту Кириллу начать работу по подготовке русской редакции Кормчей книги, в которую вошли тексты из новоприсланного «Законоправила» и предшествующей Древнеславянской редакции Кормчей, а также целый ряд древнерусских памятников [Корогодина, 2017а, т. 1, с. 65–79].