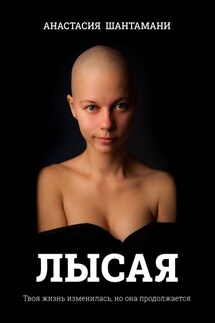Право в истории русской философии - страница 21
Этот же тезис мы находим у другого автора, Ф. Баттальи, который, признавая за Соляри авторитетного систематизатора кантовской философии, в свою очередь делает акцент в большей степени на принуждение априори, т. е. на возможность принуждения. В своей работе «Экономика. Право. Мораль» Батталья пишет, что человек, следуя праву, действует вынужденно из априорного принуждения, которое определяет для всех субъектов и в абсолютной степени внешнюю свободу и субъективное право так, что не устраняет и не уменьшает свободу и право других.
Итак, Г. Соляри и Ф. Батталья разделяют в весьма категоричной форме два понятия на две независимые друг от друга сферы: одна (мораль) «принадлежит к сверхчувственному порядку, который не участвует в судьбах эмпирии», а другая (право), напротив, есть потребность разума, но в целях человеческого существования»[50], т. е. она должна развиваться в эмпирическом мире, давая при этом ему смысл и ценность. Однако элемент принуждения придает праву силовую характеристику и тем самым отграничивает от морали, в которой доминирует самоограничительная и саморегулирующая внутренняя сила индивида. Таким образом, мы познакомились с интерпретаторами данного рода, делающим «уклон» к выделению на первый план значимости и особой ценности правовых постулатов, освобождая их от какой бы то ни было зависимости от моральных ценностей. Две данные сферы при всем своем автономном существовании не создают факта их противоречия, часто находясь в совершенном согласии.
К указанному типу интерпретаторов можно отнести и высказывания известного кантоведа Н. Боббио. В работе «Право и государство в философии И. Канта» он подчеркивает, что различие между моралью и правом Кант соединяет с вопросом различения моральности и законности, как внешнего и внутреннего. По мнению Боббио, данное разделение было вызвано потребностью в ограничении светской власти. Продолжая традицию Ф. Аквинского, Кант тесно соединил правовую систему с понятием принуждения.
Из критерия отличия внутренней и внешней свободы рождается характеристика правового долга относиться к действию с ответственностью перед другими. Именно отсюда происходит право принуждать следовать долгу. В отличие от внутренней стороны морального долга, заключающейся в невозможности субъекта ему следовать, в правовом поступке субъект уступает принуждению и подобное действие совершается не ради долга, а по причине принуждения и, следовательно, не может называться моральным. Напротив, правовой долг не заставляет субъекта действовать ради долга, а лишь оценивает действие соответственно долгу. Подобный долг обязывает субъекта быть ответственным перед другими и порождает в других субъектах право принуждать, не исключая и существующей власти. Интересно отметить замечание Боббио о том, что в понятии принуждения нет жесткого, силового давления. Принуждение необходимо для исполнения юридического права, тем самым данный автор склоняется к уже известному нам выводу о «ведущей и благородной роли принуждения во имя всеобщего порядка»[51].
Но наше рассмотрение было бы односторонним, если ограничиваться уже упомянутыми течениями. Есть целый ряд исследователей данной проблемы, которые отстаивают противоположную точку зрения.
Еще в 1916 г. Г. Видари в коротком вступлении к первому изданию в Италии «Метафизики нравов» Канта писал: «…интересно видеть в качестве основателя современной философии и открывателя чистых принципов морали того, к кому любят вновь обращаться многие современные философы права, устанавливая таким образом и высвечивая близкую зависимость правовой концепции н, следовательно, также теории государства от высших принципов чистой морали»