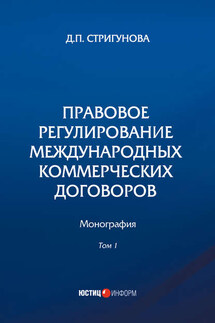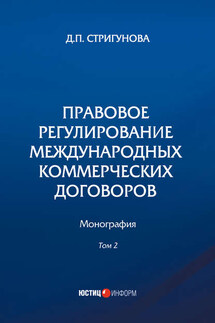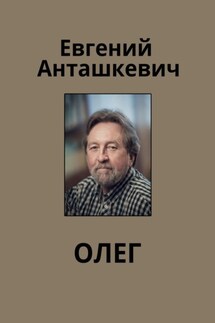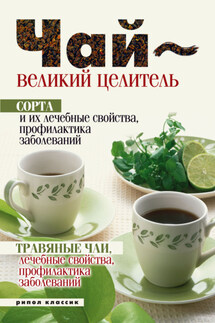Правовое регулирование международных коммерческих договоров. В 2 томах. Том 1 - страница 44
В заключение данного параграфа необходимо рассмотреть вопрос, касающийся определения права, которому подчиняется международный коммерческий договор с точки зрения своей формы. С одной стороны, указанный вопрос может возникнуть у сторон международного коммерческого договора при определении его условий и выбора для него права. С другой стороны, при возникновении спора и обращении в суд (арбитраж) указанный вопрос будет поставлен правоприменительным органом при определении формальной действительности международного коммерческого договора и признания его заключенным.
В течение длительного времени форма гражданско-правовой сделки подчинялась в доктрине действию правила locus regit actum, в соответствии с которым форма сделки определялась по месту ее совершения. Указанная привязка просматривается еще в трудах постглоссаторов, в частности Бартола[237]. Лишь в XIX в. возникло и получило широкое распространение иное воззрение, в силу которого формуле locus regit actum следует придавать не абсолютное, а факультативное значение[238].
В настоящее время привязка к месту заключения сделки для определения формального статута международного коммерческого договора в чистом виде используется в законодательстве лишь некоторых стран: см. ст. 9 Вводного закона Бразилии к ГК 1942 г., ст. 969 ГК Ирана 1936 г., ст. 13.1 ГК Кубы 1987 г., ст. 33 Ордонанса Мадагаскара № 62-041 1962 г., ст. 2399 ГК Уругвая 1941 г. и законодательство некоторых других стран, количество которых невелико[239].
Между тем привязка к месту заключения сделки продолжает использоваться в международных соглашениях СНГ в качестве единственной коллизионной привязки для определения формального статута международного коммерческого договора. Так, указанная привязка содержится в п. «г» ст. 11 Киевского соглашения СНГ 1992 г., ст. 39 Минской конвенции СНГ 1993 г., ст. 42 Кишиневской конвенции 2002 г.[240], что не отвечает современным потребностям международного коммерческого оборота, на что неоднократно обращалось внимание в литературе[241].
Привязка к праву страны заключения договора для установления его формального статута не всегда соответствует интересам сторон. Прежде всего проблема заключается в том, что указанное место может оказаться случайным по отношению к участникам международного коммерческого договора и не иметь к нему никакого отношения. Это происходит, например, в случаях, когда договор заключен на ярмарке или выставке. В ряде случаев достаточно трудно установить место заключения договора, в частности тогда, когда участники международного коммерческого договора находятся в разных странах и используют различные системы для определения момента и места заключения договора, то есть принадлежат к различным правовым системам. Кроме того, как справедливо отмечает А.В. Асосков, длительные переговоры между сторонами международного коммерческого договора, отсутствие необходимости так называемой «зеркальности» акцепта праву ряда зарубежных стран, а также неоднократное направление сторонами друг друга встречных оферт могут привести к сложности в определении того, волеизъявление какой из сторон является офертой, а какой – акцептом, что также затрудняет решение вопроса с определением места заключения договора[242].
В связи с этим полагаем, что привязка к праву страны заключения договора может использоваться в качестве альтернативной для повышения «валидативности» договора, но не должна использоваться в качестве единственной коллизионной привязки для определения права, регулирующего форму международного коммерческого договора. Указанные недостатки могли бы быть учтены законодателем ЕАЭС в ходе подготовки нового международного соглашения, посвященного определению права, применимого к международным коммерческим договорам.