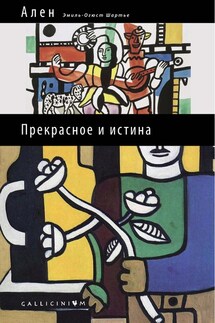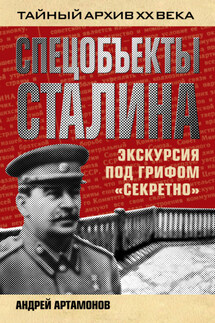Прекрасное и истина - страница 23
À propos: с этим, пожалуй, трудно спорить. Даже столь очевидный пессимист, как Ф. Кафка, признавался самому себе: «Будь я посторонним человеком, наблюдающим за мной и за течением моей жизни, я должен был бы сказать, что все должно окончиться безрезультатно, расстратиться в беспрестанных сомнениях, изобретательных лишь в самоистязании. Но, как лицо заинтересованное, я – живу надеждой»[46].
В связи с затронутой темой свое слово, конечно, сказал и тот педагог и моралист, чей голос очень часто звучал в текстах Алена: «Нам следовало бы ввести в школе особый предмет – искусство быть счастливым»[65], – фантазировал он, вполне обоснованно настаивая на том, что «доброта – это радость. Любовь – это радость»[49] (что, к сожалению, отнюдь не исключает присутствия в ней, в любви, и гораздо менее привлекательных чувств и переживаний). Выступая, по сути дела, принципиальным оппонентом библейского Экклесиаста и беря себе в союзники стоиков и эпикурейцев, философ утверждал, что «думать о печали – значит преумножать ее; думать о ненависти – значит увеличивать ее; думать о желании – значит усиливать его»[119]. Идя от Сократа и соглашаясь с точкой зрения самого выдающегося ученика последнего, он писал, что «основная мысль Платона заключается в том, что с того момента, когда человек начинает управлять самим собой, он становится добрым и полезным для других людей, даже не думая об этом»[366].
И все-таки оптимизм Алена не столь прост, как может показаться на первый взгляд: «Надо верить, надеяться и улыбаться;
и при этом трудиться, поскольку человеческая природа такова, что, если не сделать основным жизненным принципом непобедимый оптимизм, все перейдет тут же во власть черного пессимизма»[181], – объяснял он. Отсюда проистекает, пожалуй, главная особенность аленовской надежды, которая состоит в том, что последняя оказывается исключительно деятельной, а именно: надеяться имеет право только тот, кто прилагает все свои силы и способности, для того чтобы его планы были реализованы.
À propos: как мне кажется, в описываемой позиции можно обнаружить тот особый дух протестантизма, о котором незадолго до публикации комментируемых строк замечательно написал М. Вебер в своем знаменитом трактате «Протестантская этика и дух капитализма».
С другой стороны и попросту говоря, быть пессимистом нехорошо. А поэтому необходимо становиться оптимистами! И все же оптимизм в трактовке философа – это отнюдь не проявления самодовольства ограниченного человека, не пустословие демагога, не основанная практически ни на чем лейбницевская уверенность, что мы живем в наилучшем из миров, или в том, что при внимательном рассмотрении последнего мы обязательно обнаружим, насколько он прекрасен.
À propos: правда, в 1910 г., т. е. будучи еще совсем не старым человеком, и Ален признавался: «Достаточно одного взгляда на мир, чтобы он очаровал вас и увлек за собой»[73]. И здесь уместно напомнить, что примерно в то же время и примерно то же самое в Прологе к поэме «Возмездие» (в основных чертах она была завершена в 1911 г.) писал еще более молодой А. Блок: «Сотри случайные черты – / И ты увидишь: мир прекрасен».
Может, это было какое-то в особой степени оптимистичное, а может даже извращенно оптимистическое, время? Охотно это допускаю, хотя подобный вывод выглядит особенно нелепым (но отнюдь не невозможным) в связи не только с начавшейся всего через несколько лет Первой мировой бойней, но и с признанием чутко воспринимавшего происходившее и тем самым противоречившего себе поэта о том, что «зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. <…> Уже был ощутим запах гари, железа и крови»