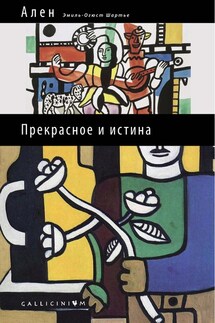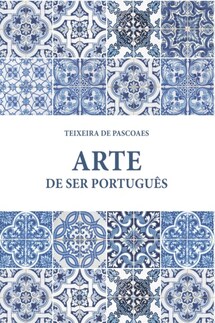Прекрасное и истина - страница 34
И все-таки я не стал бы возводить учтивость в разряд «одного из фундаментальных понятий» философской концепции Алена (тем более что, как уже отмечалось, для разговора на основании анализа его propos о наличии таковой в традиционном смысле слова нет достаточных аргументов), поскольку в первую очередь его интересуют гораздо более фундаментальные вопросы, связанные со свободой, сомнением, памятью и т. д. Учтивость – это не более чем деталь «надстройки» над ними.
Делать, а затем размышлять
Как уже отмечалось, морализаторский характер сочинений Э. Шартье очевиден. В то же время философ никогда не выступал в роли назойливого и абсолютно уверенного в своей правоте ритора. Он фактически всегда лишь «информировал» читателей о своем мнении, а его более или менее явные советы никогда не носили характера жестких требований. Одним из принципов, положенных в основание рассуждений и рекомендаций философа-педагога, стало его убеждение в том, что ведущую роль в жизни, в выборе лучшего из возможных вариантов, в принятии решений и т. п. играет не размышление (как можно было бы предположить, принимая во внимание уже отмечавшийся рационализм философа-картезианца), но непосредственное и даже спонтанное делание, например: «…надо лишь сдвинуться с места любым способом, а уж тогда задуматься, куда направиться»[208].
À propos: это суждение каким-то причудливым образом напоминает наполеоновско-ленинское «главное – ввязаться».
Вопрос о делании – одна из самых «чувствительных» точек в совокупных рассуждениях Алена: «Принимать решение – ничто, брать в руки инструмент – все.
À propos: как тут не вспомнить знаменитую фразу друга Ф. Энгельса Э. Бернштейна «Конечная цель – ничто, движение – все» (чего, не исключено, и добивался Ален)!
Мысль следует потом. …Совершенно бесполезно размышлять о том, что вы будете делать, до того как вы это сделали. <…> Наша мысль устроена отнюдь не так, чтобы идти впереди;
кто обдумывает свои действия, как правило, никогда не действует»[357; курсив мой. – К. А.], – утверждал Ален, формулируя таким образом один из важнейших своих мировоззренческих принципов. Еще более отчетливо та же мысль была выражена в следующем его высказывании: «В труде происходит накопление ценностей; позднее, когда оно уже осуществилось, появляется и мысль»[285].
Таким образом, при разрешении «фаусто-гётевского» вопроса философ приходит, на первый взгляд, к парадоксальному выводу: деяние предшествует не только слову, но и мысли. Иначе говоря, «“В начале было Дело” – стих гласит», – как писал разочарованный в жизни и в науке и взявшийся переводить «Евангелие от Иоанна» Фауст[61]. Хотя, пожалуй, Ален идет дальше гетевского героя, например: «письмена, которые принадлежат к наиболее древним, были начертаны еще до того, как их научились читать»(6), – парадоксальным образом заявляет он. «Поэтому не следует утверждать, что первоначально храмы возводили в честь богов; ведь были памятники, большие и основательные дома, различные свидетельства о человеческом прошлом, камни и узловатые стволы деревьев, человека напоминавшие и вскоре обретшие свои формы благодаря наблюдательности рук. Бог поселился в идоле и в храме»(27).
А вот еще один пример уже более конкретизированных рассуждений философа по тому же поводу: «Можно было бы сказать, что человек создавал идолов, потому что был религиозен: это подобно тому, как если бы сказали, что он изготовил инструменты, потому что был ученым. Однако, напротив, наука есть лишь изучение инструментов и наблюдение за работой, использующей их. Точно так же я, скорее, сказал бы, что объектом изначального созерцания был идол и что