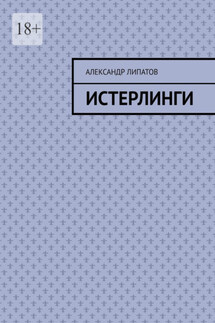Претерпевшие до конца. Том 2 - страница 55
– В Сибирь, девонька. Куда ж ещё могут?
Их, действительно, привезли в Сибирь. Через три недели мытарств выбросили в тайге вместе с пожитками. Уже вечерело, и холод пронизывал насквозь. Никакого жилища поблизости не было, но было кое-что из инструментов…
– Руки есть, топор есть – как-нибудь справимся… – вымолвил Боря.
В темноте, освящённой лишь огнями костров, в сугробах по колено измученные люди стали валить деревья и строить временное «жилище». Перво-наперво поставили опорный каркас из жердей, к нему прислонили свежесрубленные ели, обложили лапником и для утепления сверху засыпали снегом. В этом бараке-шалаше умельцы навесили дверь, у которой наладили печь-«буржуйку», по обеим сторонам и в центре на всю длину растянули в два-три яруса сплошные нары из жердей. На одну душу в этом «жилище» пришлось по одной десятой квадратного метра…
– Ничего-ничего, – бодрился Боря. – Были бы руки и голова на плечах… Вот, сойдёт снег – не так отстроимся! Избы срубим, огород насадим. Проживём!
Но до той поры, пока снег сошёл, рядом с шалашом успело вырасти кладбище, на котором нашла последний приют свекровь и ещё многие, многие…
Детей, которых было так много в начале пути, почти не осталось, и уже привычным стал плач матерей в тяжёлые ночные часы. Днём за работой тоска притуплялась, а ночью грызла лютым волком.
Измученная Дарья, наконец, затихла, прижав к себе безмолвную дочь. Подле неё остался лишь Николаша, обнимавший несчастную за плечи. А совсем рядом неподвижно сидела, обхватив колени, Зина. Дорога отняла у неё двоих: трёхлетнего сына и дитя, бывшее ещё в утробе. Сама после выкидыша она осталась жива чудом. И неужели только затем, чтобы увидеть, как день за днём истают два её мальчика-близнеца? Они лежали теперь рядом с ней, укрытые шубой, неподвижные, исхудавшие, посиневшие – как не живые. Цинга уже взялась за них, как за большинство обитателей барака. Зина смотрела на них немигающими, отчаянными глазами, изредка переводя их то на Дарью, то на спящего или притворяющегося таковым мужа.
Любаша пожалела, что рядом нет Бори. Вместе с ещё тремя мужиками он накануне отправился в находившийся неподалёку совхоз в поисках работы и должен был вернуться лишь на другой день. Горе Дарьи растравило в ней её собственное, и хотелось уткнуться в мужнино плечо, услышать его всегда ободряющее слово. Одно укрепляло: с собой она дала Боре для отправки письмо сестре Аглае. Зная положение её мужа, она цеплялась за соломинку: вдруг хотя бы детей сумеет вызволить он на время, пока не удастся худо-бедно наладить жизнь здесь…
Зина так и не решилась приблизиться к свояченице, боясь её. Любаша понимала этот страх. Зина потеряла сына, но имела ещё двоих детей и мужа, Любаша также имела любимого и любящего мужа, с которым в их молодые годы могла народить ещё много детишек. У Дарьи не осталось никого: ни пятерых детей, ни мужа… Лишь одна единственная дочь, чахнущая от лишений. Рождённой страданием чёрной зависти суеверно боялись и Зина, и Любаша.
Снова улёгшись на своё место, она не могла уснуть. В бараке слышались приглушённые всхлипы – многие души растревожило новое горе. Голос старика Федосея, знатока Писания, заменявшего для их колонии священника, прошамкал из угла:
– Плачет Рахиль о детях своих и не может утешиться, ибо их нет…
Глава 11. Совесть
Письмо было не очень длинным, написанным огромным почерком без знаков препинания и абзацев. Но будь оно даже вдесятеро короче и нацарапано булавкой, этого бы хватило, чтобы всякое, ещё не покрытое непробиваемым панцирем сердце почувствовало себя угрожаемым. Такая нестерпимая волна человеческого горя шла от этих строк, такой оглушительный вопль о несправедливости звучал в каждой букве, что Александр Порфирьевич по прочтении выпил целый стакан ледяной воды и промокнул шею.