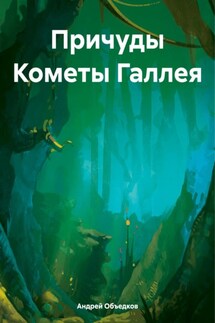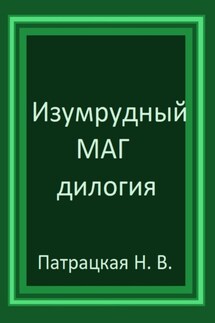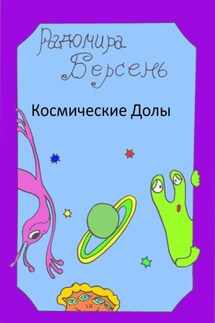Читать онлайн Андрей Объедков - Причуды Кометы Галлея
Я Андрей Фентифлюшкин, живу в городе Мичуринске. Это провинциальный город с населением в 125 тысяч человек, он второй по величине в Тамбовской области. Причём мы с одноклассниками считали несправедливостью, что город, который основан в 1635 год, на целый год раньше, чем Тамбов, не сделали областным. И по этому поводу у нас возникла дискуссия с одноклассниками Владиком Мячиковым и Геной Смычковым, когда шли в редакцию городской газеты на занятия клуба журналистов.
– Может напишем статью об этой несправедливости? – предложил Гена.
– Только обязательно приводить доводы, почему решение несправедливое. А то не опубликуют. Думаю, иначе редактор не пропустит, он же член горкома партии, – развил тему я.
– Какие доводы, просто в этом решении нет логики? – резюмировал Влад.
– А мы так так и напишем, что Тамбов является областным городом неправомерно потому, что в этом нет логики? Да такую статью кто читать будет? – перекосил лицо я.
– А какие доводы предлагаешь тогда ты? – поинтересовался Мячиков.
– Считаю, что надо опираться на историю, что начинали строить города на Белгородской оборонительной черте для защиты Московского государства от монголо-татар. И строили именно в тех местах, где были особенно стратегические места. Раз Мичуринск построили раньше, то это и говорит о важности места и о важности города, – поднял палец я.
Гена подхватил, что город действительно стоит на уникальном месте – холме высотой свыше 20 метров, мол, Ильинскую церковь, высота которой 61 метр 80 сантиметров, видно за несколько километров от него.
– Да что за несколько километров, за десятки: мы с родителями ездим часто на их родину – в село Лежайку, а это почти 20 километров от города, так вот Ильинка видна даже оттуда, – подтвердил я.
– А значит врагов было видать в округ далеко, и наши воины могли подготовиться к схватке заранее, – обрадовался Гена.
Мы как раз подошли к редакции, которая располагалась в угловом доме на пересечении центральной улицы Советской и Гоголевской, на которой метрах в 300 в сторону находился драматический театр. Мы все втроём захаживали туда. Особенно тусовались, когда шла неделя «Театр – детям и юношеству».
ГЛАВА 2
О НАС
Расскажу немного о нашей компании, которую в классе все звали «Святая Троица». Я с Геной Смычковым учился вместе с первого класса, он был худым и долговязым парнем, а я наоборот коренастым и пухленьким. Сидели на разных партах и на разных рядах и поначалу как-то даже не общались. А вот сблизились во время месячника «Миллион – Родине», проводившейся в апреле 1981 года и посвящённой дню рождения Владимира Ильича Ленина – основателю Коммунистической партии и нашего Советского государства – мы же жили в Советском Союзе, где по Конституции КПСС была единственной и главенствующей партией в стране. Выборы в Верховный Совет СССР считался праздником, на избирательных участках играла музыка, работал буфет. Даже некоторые горожане шли первыми проголосовать, чтобы потом о них написали в газете, что, например Сергей Сидоров пришёл первым и выполнил свой гражданский долг. Увидеть свою фамилию в газете тогда являлось почётным. Но вот в избирательных бюллетенях всегда стояла одна фамилия кандидата, поэтому никакой конкуренции не было. Меня всегда удивляли репортажи из-за рубежа, как там проходят выборы: дебаты, предвыборные гонки, показывали даже на избирательном участке драки и потасовки. Мои родители с друзьями даже смеялись, когда смотрели это. А у нас в СССР всё проходило тихо и спокойно. Причём взрослое население практически всегда после выборов собирались за столом и отмечали успешные выборы. В Советском Союзе считалось, что кандидатом выдвигают только самых достойных, так зачем ещё нужны конкуренты? И основные кандидаты всегда побеждали с результатом 99,9 процентов. Одного человека, который входил в число одной сотой и который голосовал всегда против, я знал. Это был наш учитель музыки – Валерий Павлович. Он гордился что входил в число условной оппозиции и голосовал против, не соглашаясь, что выдвигается только один кандидат. Но это был единственный человек, которого я зал, кто так открыто высказывался по выборам. Но быть в те времена членом КПСС было престижно – тогда тебе светила все карьерная лестница по работе. А вот в школе не быть октябренком, пионером, а потом членом комсомола было просто не принято. Если тебя не приняли, значит ты или двоечник или хулиган.
Хочется отметить, что в 1981 году, когда мы учились в третьем классе, как раз отмечали 110-летие Ленина и в апреле проводили операцию «Миллион – Родине», в ходе которой мы собирали макулатуру. Почему так называлась эта акция – трудно сказать. Неужели организаторы думали, что пионеры соберут миллион килограммов макулатуры? Но нам пообещали, что кто будет лидером, примут в пионеры досрочно – 22 апреля, то есть на день рождения Владимира Ильича, причём это событие будет в Ленинской комнате. А там проводили только самые торжественные события. Я тогда загорелся и дал себе слово, что я должен быть первым. И все своё свободное время гонялся по домам, собирая по квартирам макулатуру. Я должен был победить в этом состязании, так как в учебе усердия не проявлял. Тогда не было кодовых замков, подъездные двери были открыты нараспашку. Мы поднимались пешком на пятый этаж и начинали свой обход с верхнего этажа, чтобы проще было спускаться с набранной макулатурой. К слову, в нашем гороже самыми высокими зданиями были пятиэтажки. Когда на наш звонок открывали, я спрашивал:
– Макулатура есть?
Как правило за дверью стояли женщины или бабульки и всегда доброжелательно реагировали на просьбы школьников.
– Сейчас, секундочку, – и через какое-то время выносили стопку не нужных газет.
Ведь в каждой квартире в те времена выписывали кучу газет. Взять хотя бы мою семью: родители подписывались примерно на десяток газет. Так как отец был членом партии, то он был обязан подписываться на «Правду». Приносили также «Гудок» – отца, работавшим машинистом, эту газету обязывали выписывать в депо. Приносили нам «Советскую Россию», «Литературную газету», «Пионерскую правду», «Вперёд» – газету Юго-Восточной железной дороги. Ещё мама обязательно выписывала журналы «Здоровье», «Работницу» и «Крестьянку». Не обходились и без местной прессы: городской «Мичуринской правды» и районной «Знамя Октября». Потом у мамы появилась ещё возможность пробить на работе подписку на суперпопулярный в те времена еженедельник «Аргументы и факты». Просто на почте подписаться на неё было нельзя: подписки были лимитированными и их выделяли по несколько штук на каждое предприятие. Сейчас даже мне смешно сравнивать времена: сейчас практически никто не выписывает газеты, так как проще купить их в киоске. А вот тогда за подписки «дрались». Не в прямом смысле слова, а в переносном.
И самое главное все читали газеты. Несмотря на то, что сейчас говорят, что пресса была политизирована (да, не отрицаю, что была политизирована, так как в каждом номере была информация о заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, или обкома КПСС, или горкома – всё зависело от уровня газеты), но публиковались и весьма интересные материалы. Мне, например, нравилось просматривать газету «Вперёд», где шли сводки о соревновании отделений Юго-Восточной железной дороги и я чуть ли не до потолка подпрыгивал, когда видел новость, что Мичуринское отделение заняло первое место. Хоть в этом Мичуринск переплюнул Тамбов: именно у нас было отделение железной дороги, а не в Тамбове – именно локомотивное депо Тамбов подчинялось мичуринскому отделению дороги. И не случайно – недалеко от Мичуринска находился посёлок Кочетовка – крупный железнодорожный узел. Таких по Советскому Союзу, как говорил мой отец, было всего девять. А он не будет врать, так как работает машинистом. Впрочем, я рос в железнодорожной семье: машинистами кроме отца были мой дядя Валера – родной брат отца и мой брат Витя – сын отца от первого брака. Он жил со своей матерью в двух кварталах от нас и частенько приходил к нам в гости. Они рассказывали, что в локомотивном депо Кочетовка, которое занимается грузовыми перевозками, работает три тысячи человек. Это был масштаб для небольшого города. Именно про их депо Александр Солженицын написал рассказ «Случай на станции Кочетовка». Правда в один период его заставили поменять название на Кречетовку из-за того что руководителем Союза писателей был Кочетов и подумал что название населённого пункта дал по его фамилии.
Мне нравилась железнодорожная романтика, я любил ездить в поездах. Однажды отец взял меня в поездку, я ехал в локомотиве и чувствовал себя тоже машинистом. После этого я тоже захотел продолжить семейную династию и вскоре написал в городскую газету заметку «Хочу стать железнодорожником».
А вот в районной газете «Знамя Октября» я любил просматривать сводки надоев молочных ферм. Возможно потому, что я был молочным человеком. Но, кстати, материалы о том, как работали колхозы и совхозы, мне очень помогли потом, когда я в областной молодёжной газете «Комсомольское знамя» увидел информацию о том, что объявили конкурс, посвящённый истории Тамбовской области. А главным призом было то, что человек, занявший первое место, должен был вне конкурса поступить на исторический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Я тогда тоже загорелся поучаствовать и два вечера часов до двух ночи отвечал на вопросы, используя публикации в районной газете. И самое интересное, что за вопрос о сельском хозяйстве, где я использовал цифры с газет, получил пятёрку. Я победил в первом этапе и меня вызвали в Тамбов на очный этап, где должен был определиться победитель.
Но сейчас я отвлёкся от темы. Ведь тогда в апреле 1981 года мне очень хотелось победить в операции «Миллион – Родине» ради того, чтобы меня первым приняли в пионеры. Как правило вне очереди принимали отличников, а еще особо отличившихся школьников. Так как я не выделялся в учёбе, то обязательно должен был стать «особо отличившимся» в общественной жизни. Мать подначивала меня:
– Чего ты рвёшься? Не примут 22 апреля, так повяжут галстук 19 мая на День Пионерии! – улыбалась она.
– Но это, во-первых, на месяц позже, а, во-вторых, на день Пионерии принимают практически всех подряд, а 22 апреля – только лучших. Никак ты не поймёшь: я должен быть лучшим, – нервничал я.
– Ну куда мне понять…
Вначале я подобрал в квартире и в гараже не нужные газеты и отнёс их в школу. Благо она располагалась в полукилометре – я доходил до неё за пять минут. Макулатуру принимали во дворе школы, взвешивали на безмен и складировали в подсобное помещение, а потом мы шли в пионерскую комнату, в которой пионервожатая Татьяна в специальной тетради записывали кто сколько принёс. Таня была худощавой, смуглой, темноволосой девушкой небольшого роста, наверно около метра 55 сантиметров и практически всегда улыбалась. Я никогда не видел её без дел. Если не бегала по школе, то в пионерской заполняла какие-то бумаги или возилась с пионерами. Её трудно было найти просто сидящей за столом и ничего не делающей. Если честно – она мне очень нравилась. То, что я активничал в акции «Миллион – Родине», было одним из факторов, чтобы почаще увидеть пионервожатую. Но существовала одна проблема: мне было 10 лет, а ей – 19. Я догадывался, что у неё может быть жених, но внутренне решил, что когда вырасту, то обязательно женюсь на Тане. А сейчас она должна обратить на меня внимание!