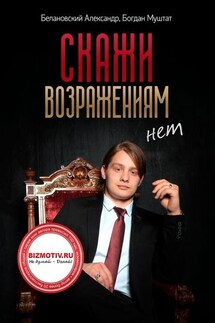Принцип формального равенства и взаимное признание права. Коллективная монография - страница 34
В свое время Р. Давид отметил важнейшую особенность юриспруденции как учебной дисциплины: «Преподавание права возможно именно потому, что оно есть нечто иное, чем изменяющиеся нормы»>186. Действительно, смысл подготовки юриста не в зубрежке действующих норм, которые меняются достаточно быстро. Юрист должен усвоить и уметь применять принципы права, владение которыми позволит принимать правовые решения даже при наличии пробелов в законодательстве.
Важно понимание сущности права, выражаемой через принцип формального равенства, – понимание, которое дается отнюдь не легко. Ведь право, в отличие от законодательства, не всегда легко «пощупать», а формальному равенству в истории всегда противостоит идея равенства фактического. История помогает почувствовать подобные различия и нюансы, увидеть, как право постепенно воплощалось в законодательстве через идею равного права на свободу и человеческое достоинство. Признание достоинства личности обусловливает интенсивность формирования в обществе горизонтальных отношений по правовому принципу формального равенства. Иными словами, чувство собственного достоинства есть необходимое условие становления правового общения в социуме и только его наличие – непременное условие и логическое следствие соответствующего уровня правовой культуры. Правовой принцип формального равенства предполагает, конечно, абстрагирование от дополнительных конкретных характеристик личности (уровня достатка, половой принадлежности, умственных способностей и пр.), однако осознание субъектами своей равнодостойности с визави есть не дополнительная характеристика, а неотъемлемое требование к любому субъекту правоотношения.
На всех исторических этапах государство, закон и право развивались во взаимодействии и взаимовлиянии. Но если законодательство неизбежно отражает основные социокультурные, экономические и политические характеристики общества, то право на некоторых этапах может и не оказывать видимого влияния на государство и законы. Даже в сословных, классовых или иным образом разделенных обществах в рамках каждой референтной группы ключевым вопросом остается возможность совмещения принципа равенства людей по одним критериям с неравенством, порождаемым другими критериями (играет роль разница в изначальном материальном положении, способностях). Как бы ни старались на уровне абстракции развести два понимания равенства, на практике неизбежно получается, что материальное благосостояние, порождаемое неравенством стартовых возможностей, способностей и прочего, порождает и серьезные проблемы с осознанием и внешним выражением равенства по критерию человеческого достоинства. В обществе победившего принципа формального равенства проблема даже обостряется. Как заметил Ф. Фляйнер в «Швейцарском конституционном праве», «если равенство перед законом необходимо для демократии, оно может стать для нее и камнем преткновения. Дело в том, что оно поощряет фанатизм и зависть, стремящиеся рассматривать всех людей как равных во всех сферах жизни и отвергает из-за их якобы недемократичности все различия, связанные с образованием, воспитанием, одаренностью, традициями и т. п.»>187.
В российской традиции идеи, так или иначе связанные с необходимостью установления фактического, то есть неправового, равенства, высказывались в разное время и разными мыслителями. Доведенная до логического завершения, эта идея прозвучала в работе «Государство и революция». Будучи образованным юристом, автор работы В. И. Ленин, конечно, понимал, что «демократия означает только формальное равенство», то есть четко формулировал правовой принцип, на котором основаны буржуазные демократические системы. Однако он утверждал, что прогресс человеческого общества состоит в переходе от равенства формального к равенству фактическому, которое станет возможным по достижении общественным сознанием высокого уровня, когда в целом отпадет необходимость в регулировании границ внешней свободы индивида. Он писал, что после отмирания государства начнется отмирание демократии «в силу того, что избавленные от капиталистического рабства люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, без особого аппарата для принуждения, который называется государством»