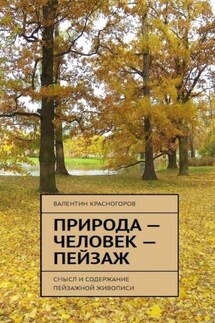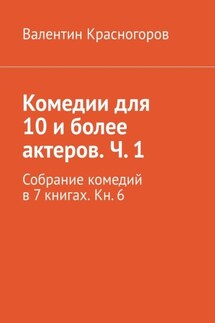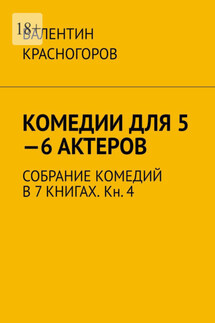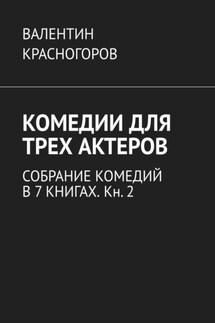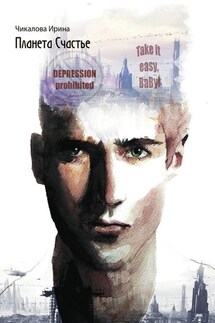Природа – человек – пейзаж. Смысл и содержание пейзажной живописи - страница 22
Уже в ранней картине художника – «Падение Икара» (ок. 1558) – пейзаж, взятый с огромной, «космической» высоты, кажется, воплощает весь мир. Тонущий Икар едва заметен, природа не обращает на него внимания, продолжая жить по своим законам: судьба одного человека не может изменить извечный ход вещей. Пахарь, пастух и рыбак, даже не замечают гибели смельчака – они заняты своим делом. Брейгель и изображает их безличными, анонимными – они выступают как детали названного «механизма»46. Формально Брейгель разрабатывает сюжет из Овидия, но при чем тут античный поэт и вообще античность? Легко представить, как решили бы подобную тему итальянцы, как красив и гармоничен был бы их пейзаж, как эффектно он был бы украшен руинами, как живописны были бы селяне и в каких красивых позах они переживали бы происходящее. Но великий нидерландец (а ведь он был в Италии, видел подобные ландшафты и в натуре, и на холстах) пошел своим, ни с кем не схожим путем.
Природа играет в художественной системе Брейгеля огромную роль. Не случайно и в графике, и в живописи он начал с пейзажей и ими же завершил свой творческий путь. Сохранилось около пятидесяти рисунков мастера, и каждый из них – шедевр. По рисункам Брейгеля был сделан альбом гравюр «Большие пейзажи» (1555); получивший огромную популярность. Через все произведения художника проходит мысль о величии природы – вечного и незыблемого начала всех начал, о тесной связи с ней первостепенных ценностей бытия47.
Первая из сохранившихся картин Брейгеля – «Вид неаполитанской гавани» (1560—1562) – пейзаж. Крутой дугой изгибается берег и мол, круглятся тугие паруса кораблей, круглятся и холмы. Так почти за четыре сотни лет до Сезанна молодой художник ощутил и попытался передать шарообразность Земли и напряженную кривизну пространства. Поздние его работы, и в особенности серия «Месяцы», или «Времена года» (1555) стали итогом раздумий мастера о человеке и природе.
«Механизм Вселенной» у Брейгеля отнюдь не бездушен. Мы уже упоминали, что пантеизм, одушевление природы были характерной чертой мировоззрения многих мыслителей этой эпохи. Например, Т. Кампанелла утверждал, что «небеса и земля и мир чувствуют, как малейшие микробы»48. Чувствующей, живой, творящей, растущей выступает природа и у Брейгеля. На его пейзажных холстах кипит жизнь. Снег, покрывающий землю, тает с приходом весны, поднимаются высокие травы, зеленеют деревья, но вот листва желтеет, осыпается, и снова холода сковывают реки льдом. Круглый год не прекращается работа. Мальчишки играют на улицах, взрослые заняты повседневными заботами: надо обрезать деревья, возить сено, убирать урожай, пасти скот, коптить свинью, заготовлять хворост… Жизнь человека и жизнь природы тесно связаны между собою. Вот усталые охотники, возвращаясь домой по глубокому снегу, втянули головы в плечи – и мы сразу чувствуем, как холоден этот зимний день, как устали люди и, вместе с тем, как они исполнены сознанием сделанного дела, как сильны и ловки («Охотники на снегу», 1565). И, напротив, все в поведении работающих в «Жатве» (1565) говорит о жаре июльского полдня. Так через состояние человека художник передает состояние природы, еще раз соединяя их в неразрывное целое.