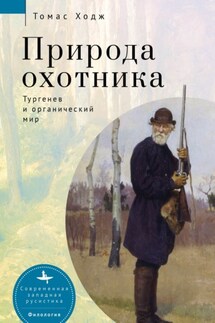Природа охотника. Тургенев и органический мир - страница 8
В заключении я размышляю о том, какую роль для Тургенева играли темы природы и охоты в последние два десятилетия его жизни, когда страсть к охоте по-прежнему волновала его сердце, но уже всё чаще появлялись и сильнее становились сомнения в ее чистоте и нравственной допустимости. В рассказах позднего периода Тургенев всё больше обращается к темам сверхъестественного. В его двух последних романах – «Дыме» и «Нови» – природа по-прежнему является ориентиром и эталоном в крайне идеологизированной атмосфере, хотя «Новь» в этом аспекте отличается значительно большей тонкостью. В приложениях приводятся четыре источника, крайне важных для того, чтобы приблизиться к пониманию тургеневской философии природы: хронология его обращений к теме безразличия природы, две рецензии на охотничий труд Аксакова и «Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки» – своего рода свод заповедей для охотников и их собак. Выбирая иллюстрации для книги, я стремился сделать наглядными различные детали русской жизни XIX века, в особенности охотничьи принадлежности и разные виды охоты. При наличии такой возможности в качестве иллюстраций всегда брались работы русских художников – современников Тургенева.
Тургенев был глубоким знатоком мира природы и уделял флоре, фауне и ландшафту серьезное внимание. Именно поэтому с самого начала изучения его творчества я стремился к предельной биологической точности: для меня живой интерес представляет вопрос о том, что же практические знания Тургенева о реальных животных и растениях могут поведать нам о его эстетике и структуре его произведений. Я попытался проследить конкретные изображения природы, чтобы сначала ответить на такие базовые вопросы, как: «Почему именно эта птица? Почему именно это насекомое? Почему именно это дерево? Зачем они упоминаются именно в этом месте?» – а затем уже взяться за более глубокие проблемы: место человечества в мире природы, этический аспект использования связанных с природой языковых образов и неоднозначную роль, которую природная красота играет в человеческом сознании. Рассматривая эти вопросы, я буду по возможности соблюдать максимальную точность при наименовании видов, которые упоминает Тургенев.
Обсуждение в данной работе животных, в особенности птиц, и разнообразия ролей, которые они играют в тургеневских литературных стратегиях, позволяет отнести значительную часть моих размышлений к области исследований животных {animal studies), одной из основных задач которых, согласно определению Джейн Костлоу и Эми Нельсон, является исследование того, как «животные реально и символически формируют и наполняют человеческий опыт» [Costlow, Nelson 2010: 2]. Кроме того, как замечает Майкл Лундблад, «исследования животных {animal studies) могут рассматриваться как работа по изучению изображений животного мира и смежных дискурсов, с акцентом на активную позицию по защите животного мира» [Lundblad 2009: 500]. Тургенев, безусловно, исследует нравственные последствия того, как люди – в особенности охотники и художники – взаимодействуют с миром природы, и он бесспорно выступает за предельно строгие требования к охотничьей этике, но какой бы силой воздействия ни обладали его горькие картины жестокости к животным или их исчезающей среды обитания, едва ли можно утверждать, что он продвигает природоохранную или зоозащитную повестку в современном смысле. Между тем его можно назвать защитником окружающей среды в более широком смысле, поскольку в большей части своих работ он ясно видит органический мир, окружающий его персонажей и его самого. Я также не стану напрямую брать на себя роль поборника защиты окружающей среды, а следовательно, некоторые части моего исследования можно рассматривать скорее как примыкающие к исследованиям животного мира