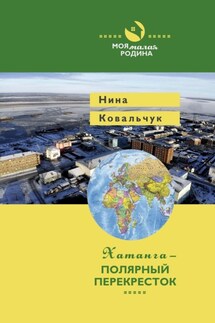Пристав Дерябин. Пушки выдвигают - страница 20
Не о Дерябине думалось; думалось о приокских лугах, заливных, зеленых, куда налетали вдруг серыми тучами гуси с какого-то далекого краю. Или вдруг всплывали белые круглые формы голых парижских красавиц, одевались на глазах в желтые капоты, танцевали.
Утро свевало пристава, как темноту, куда-то сдувало его, – схлынул пристав; длинное, пьяное, дикое осталось, а пристав стерся.
Работали легко и дружно мелкие солнечные пятна, – рябили муть. Открывались вовсю красные влажные черепичные крыши и синие трубы на них. Северянин был Кашнев, а в этих крышах и трубах таился все еще чужой для него юг – солнце, юг, молодость. И чем дальше в утро шел Кашнев, тем меньше оставалось Дерябина. Встанет вдруг, как темная глыба, крякнет низами горла: «Милый мой-й-й! У нас жестокость нужна!» И тут же разлезется, упадет, осядет. Хотелось, чтобы было только чистое, чистое все: небо – цельное, синее, воздух – ядреный, крепкий, в чистом саду за окнами, где он жил, – чистый синичий писк и чистое белье своей постели.
Чем дальше шел в утро, тем больше утро казалось своим. С кем можно разделить утро? Перед утром, молодостью, свежей силой – человек всегда один, – не одинок, а только целен, один, наедине с собою. Неистребимо длинной представлялась жизнь впереди и солнечной, – отчего? Оттого, может быть, что глубока была улица, ласково освещенная?.. Ложились уверенно полосы красные и полосы голубые, первые – ниже, голубые – выше: земля и небо. Небо слоилось сквозь розовую муть, пахнущую сырой землей. Дробилась земля на цветные кусочки, сильные, чистые, серые (днем выцветает земля). Желтые листья, точно невзначай, окапали встречные деревья. Кое-где трубы дымили синим… Выбежал из какой-то облупленной калитки густо обросший, каштановый кобелек, зевнул глубоко и посмотрел на Кашнева добродушно, по-стариковски, так добродушно, что Кашнев улыбнулся ему.
…Лошадиный галоп был слышен сначала откуда-то справа, потом на минуту замер, потом посыпался следом за ним, приближаясь: на легкой утренней улице такой тяжелый скок. И когда уже близко было и оглянулся Кашнев, увидел он, – на сером донце, пригнувшись неловко, скакал городовой с желтыми усами. Перешел на машистую рысь; подъехал; загарцевал на месте.
– Вот кобуру, ваше благородие, у нас забыли… Пристав послали отдать.
Протянул кобуру. Невольно пощупал Кашнев, беря, есть ли наган: не было нагана.
Отфыркался донец, сбросил желтую пену с удил; топыром поставил острые черные уши; горбоносый, смотрел на Кашнева искоса, высоко и строго, как надутый Дерябин, переступал в раскачку с ноги на ногу, пышал и дымился горячим потом, крутил завязанным в узел хвостом.
Похлопал его Кашнев по жилистой шее, круто от острой груди откинутой назад, – спросил:
– Это о нем говорил пристав, что опоили, – ноги пухнут?.. Не пухнут ноги?
– Нет, зачем опоили?.. Никак нет, справна лошадь.
Улыбнулся Кашнев. Смотрел в мелкие серые красновекие глаза городового и хотел было спросить, когда успел пристав отобрать свой подарок – наган, потом другое – о парне, но не спросил. Медленно вынул записную книжку и написал четко по синим клеточкам: «За знакомство спасибо. Кашнев». Слово «спасибо» зачем-то подчеркнул, листок сложил аккуратно вдвое.
– Вот, передай приставу.
И потом, привычно надевая шнур и прилаживая кобуру к кушаку, долго следил Кашнев, все улыбаясь, как мягко сверкали, откидываясь, гулкие подковы. Это был не галоп, а сбоистый, порывистый, горячий, играющий, издали красивый бег, когда силы накоплено много и ее хочется разбросать щедро и зря, как надоевшее богатство. Лохматый каштановый кобелек мчался около самых копыт, задыхаясь лаял трудолюбиво, а дальше, из дворов, наперерез донцу прыжками неслись две собаки: пестрая, тонкая, изгибистая, как змейка, и угрюмая, большая, гладкая, облезло-черная, с обвисшими старыми брыжами.