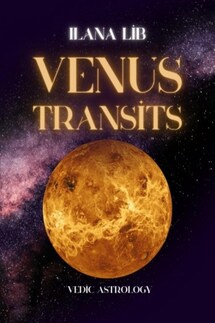Читать онлайн Валерия Алфеева - Призванные, избранные и верные
© Алфеева В. А., текст, 2024
© Издательский дом «Познание», оформление, 2024
Пасха та́инственная
Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.
Послание к Римлянам 6:8–9
Зеленый сумрак нисходит от старых тополей на церковный двор, заросший травой и желтыми одуванчиками. Тополя стоят двойным строем вдоль всей ограды, неподвижные в угасающем закатном свете. Поздняя заря еще золотит острия длинных чугунных пик ограды и отсветами пожара горит в верхних окнах храма.
Мы с отцом Александром сидим у ограды. И я вижу над полем одуванчиков высокую, до верхушек деревьев – в три оконных пролета один над другим – каменную стену, литые решетки на полыхающих окнах. Скат крыши и тяжелый купол выкрашены, как и ограда, зеленым, и огромный белый храм празднично светится в этом темном обрамлении и в окружении тополей. И белеет куст черемухи, разливая весенний нежный запах.
– На всю область оставались две церкви: одна в городе, другая эта, в Двуречках, Всех скорбящих Радости… – тихо продолжает батюшка.
– Хотели и ее закрыть. Председатель запретил чинить крышу. Осень, дождь льет, как сквозь решето. Зимой оклады икон покрываются инеем – церковь летняя, не отапливается. Затем и перекрыть не давали, чтобы объявить храм непригодным для богослужения и закрыть…
А храм, видите, какой дивный… в прошлом веке построен и еще два века простоит. На колокол собирали деньги по всем окрестным деревням. Потом впрягались в веревки, тоже всем миром… целый месяц тащили его волоком от железной дороги по полям и оврагам. А когда подняли, зазвонили в первый раз – на несколько верст звон был слышен, чистый, гулкий…
Теперь уж нет колокола… Когда стали в округе крушить церкви, тракторами сворачивать, нашу не тронули.
Снятие церковных колоколов. 1925 г.
«Теперь уж нет колокола…» 1930-е гг.
Может, сил не хватило, очень надежно была построена… да и большая, с наскока не сокрушишь… Только колокол сбросили. До сих пор осколки в земле лежат, погребены у церковной стены…
Крышу, однако, стали мы настилать… «тайно образующе», по ночам. Благословил я наших мужиков, и полезли на колокольню. Постукивали потихоньку до зари. Все боялись, не сорвался бы кто, не сломал бы голову впотьмах. Тогда уж и меня отправил бы председатель в места отдаленные…
Только Господь нас иначе рассудил. Вдруг прикатило начальство из обкома – на поля, да рано приехали, председатель опохмелиться не успел. Лег на меже и стал умирать… и умер бы, если бы не подошли местные и не догадались послать за самогоном… Ну, пока из области привезли другого, мы и крышу перекрыть успели, уже днем работали, не таясь… И отремонтировали храм, покрасили… Только уполномоченный, Лютов, тогда уже на меня зло затаил. «Погоди, – грозил мне пальцем, —
мы тебе все в свое время припомним… Будешь знать, как советскую власть водить за нос…»
– Это что же, прозвище у него такое, Лютов?
– Нет… Исконная фамилия, родовая… – засмеялся батюшка. – Правда, может, в прошлых поколениях и прозвище было, потом привилось…
Вскоре мы с ним из-за доски столкнулись… Еще с Русско-японской войны висела в храме мраморная доска в память о воинах из окрестных сел… Только и была одна историческая реликвия, все перед ней свечи поминальные горели. Ну, как-то и углядел на ней уполномоченный надпись: «За веру, царя и Отечество живот свой положивших…», велел доску снять за проповедь монархизма.
Народ-то ко всему уж притерпелся, а тут вдруг ни в какую: «Не дадим наших отцов и дедов, за Отечество жизнь положивших, Лютому на поругание…» Пошли по селам подписи собирать, в Москву ходоков посылали… Вроде, даже уполномоченному посрамление вышло, за ревность не по разуму. Опять мне минус…
Вдруг где-то совсем рядом, в черемухе, в нерасцветшей сирени защелкал, залился прозрачными трелями соловей. И так наполнился этими чистыми звуками затихший Божий мир, что вытеснила малая пташка из него уполномоченного, и мы с батюшкой как будто о нем забыли. Долго сидели в благоуханных весенних сумерках, слушали соловья.
Дом батюшки на окраине города – большой, старый, разросшийся вширь. Мы завтракаем в кухне с распахнутым в сад окном. Матушка Варвара в белом платке, под которым ярко чернеют глаза и брови, подает с шипящей сковородки блины, густо смазывая их сметаной. В стеклянном кувшине белеет на столе молоко, и ложка стоит в сметане, а творог расслаивается крупными свежими ломтями.
Положив лапы на подоконник, из-за окна следит за нами собака Барсик с чуткими ушами. И желтые бабочки влетают в полосы солнечного света.
По будням службы нет, и батюшка долго сидит за чаем, одетый по-домашнему в клетчатую рубашку с застегнутыми даже на вороте пуговицами, с заправленной сзади под ворот косичкой.
Смотрим семейный альбом с наклеенными на серые листы с выцветшими фотографиями разного формата, с резьбой по краю. Вот Александр Васильевич лет тридцати, очень похожий на себя теперешнего – прямой пробор, наглухо застегнутая косоворотка.
Детский хор. Фотография нач. ХХ в.
«Судьба и закладывается с детства… все из него произрастает, как злак из семени». Фотографии нач. ХХ в.
Молебен. Фотография нач. ХХ в.
– Это я чтецом в церкви… А тут Варвара Петровна в церковном хоре. Один я там был жених посреди цветника чистых дев, вот и выбрал такую красавицу при своей неказистости…
А улыбается он всем лицом, щуря глаза и не размыкая губ, доверчиво и слегка смущенно.
– Да будет тебе… – отмахивается Варвара Петровна будто бы недовольно, тоже заглядывая в альбом.
И ее легко узнать в молоденькой курносой девушке с тонким выпрямленным станом, обтянутым белым шелком, – также блестят глаза из-под кружевной накидки, ярко очерчены губы.
– Это я уже в подвенечном платье… сама вышивала, заранее, года два или три – светлыми шелками по белому шелку. Оно и теперь в сундуке лежит: будем выдавать кого-нибудь из девочек замуж, пригодится…
И девочки здесь, милые, с ясными глазами, сфотографированы порознь и все вместе: старшая Оля, уже студентка, Клава, Нина с замкнутым и грустным лицом над зажатой подбородком скрипкой, младшая улыбающаяся Леночка в школьной форме, с ямочками на щеках и бантиками в косичках. И единственный сын Миша – теперь уже студент семинарии и иподиакон известного архиерея, а на фотографии тоненький темноглазый мальчик в белом стихаре, с большой свечой. Он похож на ангела, стоящего, опустив длинные ресницы, у царских врат, – чистотой и молитвенной тишиной веет от его лица.
Все интересно мне в жизни отца Александра: я еще не знаю, как это случается, что человек выходит из мира обыденности и становится священником? Мне кажется, что переход этот чудесен и таинствен, как появление из кокона бабочки с яркими крыльями в бархатистой пыльце.
И однажды он начинает рассказывать о своем детстве.
Как сослали его отца, священника, и больше о нем уже никто не слышал. Мать выгнали из дома с семью детьми. И шли они зимой, в метели, по селам, просили милостыню. Двоих грудных детей мать несла на руках, за плечами на лямках тянула санки еще с двумя, постарше. Трое шли за санями пешком, он был из них самым старшим – одиннадцати лет. Далеко кругом по селам их знали и подавать боялись, тем более пустить в дом, и сами голодали люди, куда уж принять такую ораву. Грудные дети почти сразу умерли. Потом и мать умерла. Где-то потерялись братья и сестры, кого в детский приемник взяли, кого добрые люди…
В одиннадцать-двенадцать лет работать еще рано, а просить уже стыдно. Летом жил в лесу, подкапывал на полях картошку, пек на костре. К зиме в собачьем ящике под вагоном добирался в теплые края, воровал. В Сочи попросился в детский дом.
Трудно было батюшке произнести это слово «воровал», но превозмог себя.
До этой поры его биография почти совпадала с детством моего отца, сына диакона, только диакон умер от голода при закрытой церкви в Поволжье, а жену его с детьми так же выгнали из дома.
– Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба… – выговорила я слова псалма, давно стоявшие в памяти неразрешимым вопросом.
– Неисповедимы суды Господни… воистину это страшная тайна. Даже Антонию Великому был ответ, чтобы он не исследовал эти суды, а внимал себе… – вздохнул отец Александр. – Один старец сказал мне: это особая благодать, когда Господь призывает к мученичеству.
– А если с детства… за что?
– Не «за что», а как сказано в притче о слепорожденном, чтобы на нас явлены были дела Божии… то есть, чтобы исполнился замысел Божий о каждом из нас. Судьба и закладывается с детства… все из него произрастает, как злак из семени.
– Как хорошо: цветок прорастает из макового зернышка, бабочка – из кокона, душа – из замысла Божиего?
– Да… Так вот и я жил, и о Боге не помышлял… С пятнадцати лет был на заводе учеником, слесарем… А Бог обо мне помнил. И в двадцать восемь лет чудесно досталась мне одна книга… Несколько месяцев я ее читал, и она всю мою жизнь осветила и перевернула… Потом я уже и школу экстерном кончил, и семинарию, духовную академию, но главное было сказано сразу – как в откровении…
– Какая книга?
– А вот погодите… – поднялся батюшка. – Сейчас покажу, может, вы и не слышали…
Скоро он вернулся, прижимая рукой к груди книгу в твердом переплете, с золотым обрезом. Торжествующе раскрыл ее на титульном листе с церковнославянским шрифтом, длинным силуэтом горы Афон и годом издания – 1892-м.
Так в мою жизнь впервые вошел великий святой – Симеон Новый Богослов.
Три дня за дощатым столиком под сиренью в саду я читала его «Слова». И было это озарением, откровением, блаженством, потоком благодатного света, как будто раскрылось небо. А когда я закончила книгу, батюшка обиделся:
– Как вы быстро управились… Я-то его несколько месяцев читал да потом всю жизнь перечитывал…
– И я буду перечитывать, и жизни не хватит… Просто я оторваться не могла.
– Не хватит… – согласился он. – К какой высоте Господь нас призвал, а мы пресмыкаемся в земном прахе…
– Вы-то в прахе? – улыбаюсь я. – У вас самое высшее служение, как говорит Александр Шмеман: священник, стоящий перед престолом Господним с воздетыми руками, – символ высшего предназначения человека: он получает этот мир, как дар, и возвращает Богу в благодарении…
– …во вселенской Евхаристии… Да ведь это Господь через нас низводит небо на землю… а с нас, грешных, Он за все стократ спросит… – смиренно возражает он. – Хоть бы то взять, что я двадцать лет со своей матушкой Варварой ругаюсь, пятерых детей вырастили, а все смириться друг перед другом не можем… Или, бывает, устанешь за день, приляжешь, поплачешь о своих грехах перед Господом, да так и уснешь, правило перед литургией не вычитав… А как мы постимся? Хоть и без скоромного, помилуй Бог, а все есть… и картошечка, и щи… Так ли отцы в пустыне спасались?
– Вот, отец, может, обед-то в пятницу не готовить? – посмеивается матушка, вытирая тарелки. – А подам я тебе пять сушеных смокв и холодной водицы…
– Ты-то подашь… такого, что и не хочешь есть, а еще попросишь. Особенно, если блины постные заладишь, с селедочкой… соблазн и только. Хоть уж блины не пеки в постные дни, а то «смоквы»…
– А ты не срами себя зря… Что ж ты исхудал совсем, если такой чревоугодник? Плащ висит, как на вешалке…