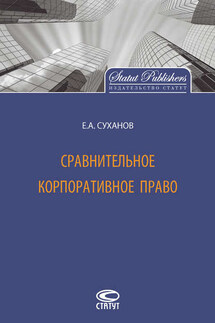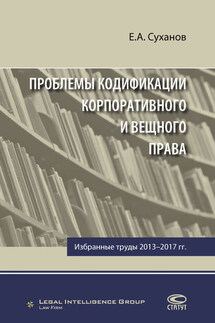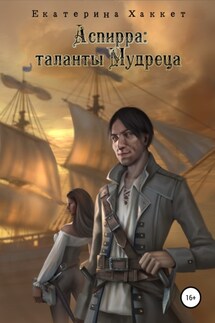Проблемы кодификации корпоративного и вещного права - страница 42
Аналогичная по существу ситуация произошла и с корпоративным договором (ст. 67.2 ГК РФ, введенная Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ). В европейских континентальных правопорядках как судебной практикой, так и доктриной (но не законодательством) допускается возможность заключения соглашений между участниками акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью относительно возможности использования принадлежащих им акций и/или долей. Обычно такое соглашение касается ограничения возможности отчуждения указанных объектов третьим лицам путем установления преимущественного права их приобретения другими участниками корпорации («преференциальное соглашение»). В некоторых правопорядках допускается даже согласованное голосование на общем собрании корпорации по отдельным (не всем) вопросам (но лишь на конкретном собрании, а не на всех вообще собраниях корпорации за определенный длительный период) путем заключения «договоров, связывающих акционеров» (Aktionerbindungsverträge), или «договоров о связанном голосовании» (Stimmbindungsverträge). Иначе говоря, речь здесь идет о договорах по осуществлению акционерных (корпоративных) прав, имеющих обязательственно-правовую, а не корпоративную природу и касающихся только взаимоотношений акционеров (участников корпорации), но не их взаимоотношений с корпорацией в целом[80]. Соответственно этому за нарушение таких договоров их участникам грозит предусмотренная ими же в конкретном договоре гражданско-правовая ответственность в виде неустойки или возмещения убытков.
Напротив, в англо-американском праве «внутренние» соглашения участников business corporation, в том числе по вопросам управления компанией и ее статуса, всегда необходимы ввиду отсутствия традиционных для европейского права уставов, роль которых в основном и выполняют shareholders agreement. Поэтому здесь условно (поскольку англо-американскому праву неизвестно деление имущественных прав на обязательственные, вещные, корпоративные и т. д.) можно говорить о корпоративно-правовом, а не обязательственном характере такого соглашения, а его несоблюдение участниками может иметь правовые последствия не только для них, но и для корпорации в целом. В связи с «генетической» привязанностью отечественных экономистов к англо-американским конструкциям они не могли не попытаться «внедрить» такую модель корпоративного соглашения в отечественное законодательство. Поводом для этого стало принятие в 2006 г. нового английского Закона о компаниях (Companies Act), который закрепил современное и развернутое регулирование этого правового института.
Главную «изюминку» такого договора его энтузиасты усмотрели в возможности с его помощью привлекать к управлению корпорацией третьих лиц, не являющихся ее участниками (следовательно, не обязанных к внесению вкладов в ее имущество и не несущих риск убытков), причем делать это тайно для всех, кто не участвует в таком соглашении, ибо принцип коммерческой тайны позволяет не раскрывать перед иными лицами не только содержание корпоративного договора, но даже и факт его заключения. Образец такого подхода был продемонстрирован Минэкономразвития РФ при подготовке и поспешном принятии Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»