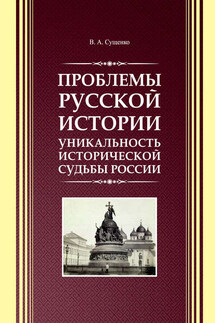Проблемы русской истории. Уникальность исторической судьбы России - страница 29
Эти два направления в правительственной политике: установление военно-бюрократического режима и «просвещённый абсолютизм» – определяли собой всю политическую жизнь России послепетровской эпохи, хотя иногда возникали вполне реальные перспективы законодательного ограничения самодержавной власти и создания представительного учреждения.
Первая и наиболее решительная попытка ограничения самодержавной власти относится к 1730 г., когда претендентке на российский престол, вдовствующей курляндской герцогине, племяннице Петра Великого Анне Иоанновне членами Верховного Тайного совета были предъявлены предварительные условия – «кондиции». По этому документу, вся полнота власти в стране переходила в руки членов Верховного Тайного совета, а будущая императрица теряла реальную власть и превращалась в чисто декоративную фигуру.
Отказ Анны Иоанновны от уже подписанных соглашений и последующую расправу над авторами этого документа известный русский историк и политический деятель П. Н. Милюков расценил как роковой поворот, очередную трагедию в истории Российского государства, когда окончательно утвердилось самовластие и была предана поруганию первая официальная российская конституция – «кондиции». Тогда же, по его мнению, потерпела крушение самая реальная в XVIII в. попытка ограничить самодержавную власть царя.
Более современные нам авторы, в частности В. Б. Кобрин и Н. Я. Эйдельман, тоже считают, что в случае принятия Анной Иоанновной «кондиций» хотя бы узкий слой российской аристократии выводился из-под необузданного произвола самодержавной власти. Это, по их мнению, могло открыть путь к гражданскому освобождению других сословий российского общества[15]. С этим трудно согласиться, поскольку освобождённые со второй половины XVIII в. от обязательной государственной службы дворяне усилили эксплуатацию своих крестьян, что ещё дальше отодвинуло перспективу их освобождения от крепостной зависимости. Кроме того, установление в таких странах, как Речь Посполитая и Швеция, полного господства феодальной аристократии отнюдь не привело эти государства к величию и процветанию.
В конкретных условиях России того времени установление полного господства над страной представителей 10-12 самых родовитых семей могло стать реакционным шагом, перечёркивающим все достижения петровской эпохи. Заговор «верховников» явился прямым отголоском звучавших во времена правления Екатерины I и Петра II предложений о восстановлении местничества, расширявшего права родовитых российских семей, и об отмене петровской «Табели о рангах», дающей возможность проникновения в дворянское сословие выходцев из простого народа. Всё-таки для России в ту историческую эпоху наиболее предпочтительной формой государственного устройства был «просвещённый абсолютизм». Только при непременном условии, чтобы российский трон занимали люди, искренне пекущиеся о благе отечества, как Пётр I.
Не все преемники Петра Великого, правившие в стране во второй четверти XVII в., оставили заметный след в российской истории. Екатерина I – по причине своей неграмотности и отсутствия всякого интереса к государственным делам, а Пётр II – по причине малолетства и ранней смерти.
Несколько особняком в отечественной истории стоит следующая правительница – Анна Иоанновна. Время её правления отмечено засильем иностранцев (прежде всего немцев) при императорском дворе и в органах государственного управления, а также установлением полицейского режима в стране. За этим периодом российской истории прочно закрепилось название «бироновщина», по фамилии фаворита Анны Иоанновны Э. И. Бирона. Не занимая никаких официальных постов, он тем не менее осуществлял всю внешнюю и внутреннюю политику страны. Это определение периода правления Анны Иоанновны проникло во все научные труды, учебные пособия и в художественную литературу. В них постоянно приводились строки из сочинений В. О. Ключевского о том, что «немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении»