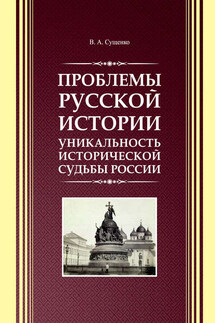Проблемы русской истории. Уникальность исторической судьбы России - страница 32
По отзыву П. Я. Чаадаева, правление Екатерины II приобрело «столь национальный характер, что, может быть, ещё никогда ни один народ не отождествлялся до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед и благоденствия»[19]. Возможно, именно по этой причине российское общество отдало ей предпочтение перед законным императором Петром III, который за полгода своего правления продемонстрировал такую неприязнь к России и её жителям, что, по мнению его жены, «во всей империи у него не было более лютого врага, чем он сам». В отличие от своего импульсивного и недалёкого супруга, у Екатерины была конкретная программа действий и воля для проведения её в жизнь.
В связи с этим возникает вопрос: почему Екатерине II Великой, сравнимой по деяниям на благо своего нового отечества с Петром I Великим, так не повезло в отечественной историографии? Во многих исторических сочинениях, особенно советского периода, её реформы, дипломатические успехи, победоносные войны и обширные территориальные приобретения оказались заслонены бесчисленной чередой фаворитов, расправой над пугачёвцами и восставшими поляками, борьбой с революционной Францией и ужесточением крепостных порядков. Иными словами, оценка личности Екатерины II и её роли в российской истории оказалась явно неадекватна успехам, достигнутым страной за годы её правления, когда Россия окончательно закрепила за собой ведущее место в мировой политике.
Вполне возможно, что многих дореволюционных и советских историков в их оценке роли самой знаменитой российской императрицы объединяло активное неприятие тех либеральных идей, которые она высказывала и, пусть не всегда успешно, пыталась провести в жизнь. Может быть, сыграл свою роль и чисто мужской шовинизм, нежелание смириться с тем очевидным фактом, что эта женщина на троне принесла России больше воинской славы и территориальных приобретений, чем иные правители-мужчины в более поздние времена.
Даже сейчас нередкими являются попытки умалить результаты её преобразовательной деятельности, представив их простым продолжением прогрессивных мероприятий в духе «просвещённого абсолютизма», начатых ещё при Елизавете Петровне, что не вполне правомерно. У Екатерины II была собственная политическая программа, которую она пыталась реализовать на протяжении всех лет своего царствования. В самом общем виде эту программу можно определить как попытку ускорения социально-экономического и культурного развития России, добиться её дальнейшей интеграции в мировую политику, но при сохранении в неизменном виде основ существующего социально-политического строя. В нём Екатерина видела прочную гарантию сохранения политической стабильности в стране и незыблемости своей личной власти. Но не только это удерживало императрицу от более решительных действий.
Здесь Екатерина II преподаёт нам урок политической мудрости, основанной на умелом сочетании искусства субъективно желаемого и объективно возможного. Известно её отрицательное отношение к крепостничеству, но тронуть крепостное право она не посмела, как сама объясняла, из страха, что дворяне просто побьют её камнями. В своей деятельности императрице приходилось учитывать интересы дворянского сословия, от поддержки которого зависела не только её судьба, но и решение всех остальных проблем страны. Однако в массе своей российское дворянство, за редким исключением (и то из числа ближайших друзей императрицы), оставалось весьма косным и консервативным, чтобы можно было подвигнуть его на большие свершения.