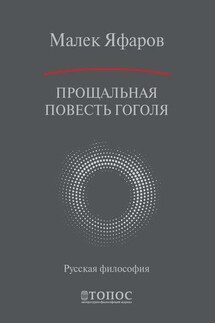Прощальная повесть Гоголя - страница 16
В. Гуминский не склонен задумываться, почему эти эпиграфы кажутся ему странными! Странным представляется то, что не понимаешь, что не укладывается в привычное для тебя положение вещей, но это – есть, это – авторская данность, поэтому, чтобы нечто перестало быть для тебя странным, надо работать над собой и расширить свой горизонт, изменить собственные стереотипы восприятия. Однако, критику не столь важно то обстоятельство, что сам автор поместил в начало сборника именно эти эпиграфы (зачем размышлять над этим и, тем более, зачем меняться самому?). Достаточно признать эти эпиграфы странными, чтобы больше над этим не думать; так странно «работало» отечественное литературоведение: ежели что не понимаешь, называй его «странным», и дело в шляпе!
В. Гуминский продолжает:
«Миргород – это многозначное понятие-образ. Исследователи давно обратили внимание на образ „сборного города“ [обратили внимание не исследователи, а сам Гоголь написал об этом – М. Я.], ключевой для драматургии писателя. В критике предпринимаются попытки сопоставить его с самой высокой мировоззренческой традицией, идущей еще от средних веков и представленной, в частности, знаменитым сочинением Аврелия Августина „О граде божьем“…»
Сопоставляя высоту мировоззрения средневековой традиции и своей, я считаю, что критик, не осознавая этого, вполне реалистичен в оценке степени высоты своей мировоззренческой традиции, которую полагает явно ниже «самой высокой» средневековой. Я благодарю за терпение моего читателя, так как намеренно взялся прокомментировать столь подробно эти советские литературоведческие отрывки, и полагаю, что это очень полезно для понимания, как именно обходится критика с глубокими смыслами великого русского писателя.
Дальше:
«…где „город“, „град“ становится иносказательным определением смысла всей человеческой жизни, так же как и смысла жизни всего человечества. Ясно одно – гоголевский город никогда не бывает просто „населенным пунктом“, он существует в одном ряду с такими понятиями, как человечество, история, мир».
Итак, вывод критика: ему ясно одно – «Миргород» не просто населённый пункт, а иносказательное определение смысла человеческой жизни, которое существует «в одном ряду» и т. д., и одновременно В. Гуминскому под руководством В. Щербины представляется «странным» все то, что делает Н. В. Гоголь: название сборника, эпиграфы, настойчивость на буквальности, финалы и т. д. Ясно же, видимо, только одно – то, что делают они сами! Такая тактика!
А теперь давайте просто прочтём то, что написано в заглавном листе «Миргорода», ничего не прибавляя и ничего не упуская. Название сборника – «Миргород».
Миргород – город в Полтавской губернии; единственное, что ещё можно добавить к этому, напоминаю, не выходя за рамки содержания повестей сборника и не улетая в воображение, это то, что Миргород – мирный город, но не город мира (сущего, всего мира), а гоголевскими словами именно – «мирный угол», «мирный уголок», это именно и просто населённый пункт, нарочито невеликое место, которых на необъятных просторах России и во времена Гоголя, и сегодня – сотни тысяч.
Дальше: «Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
Очевидно, что для Гоголя это важно, что повести этого сборника являются продолжением предыдущих, соответственно, первая повесть «Миргорода» – «Старосветские помещики» следует за последней в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» – «Заколдованным местом», и, учитывая их содержание, мы получаем авторское послание, что имение Товстогубов представляет собой как раз незаколдованное или расколдованное место, то есть место, где всё видится именно таким, каким является, где всё растёт и живёт в соответствии со своей природой: тыква вырастает тыквой, а арбуз арбузом, место, где как раз нет никакого обмана, который господствует в больших городах и столицах.