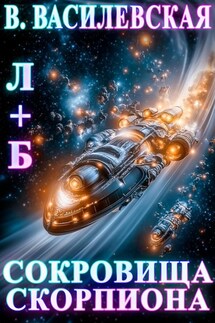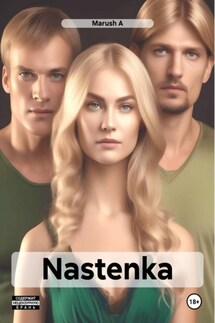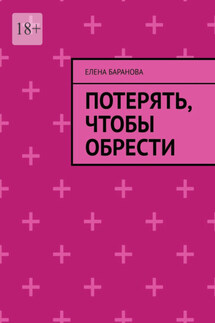Просроченная клевета - страница 33
– В девяносто седьмом году вы писали заявление об угрозе убийства?
– Нет, конечно. Вадима судили за драку с милицией с применением холодного оружия, а не за угрозы в мой адрес. Учли стрессовое состояние, в котором он находился, иначе дали бы больше.
– Вы не выступали на суде в качестве свидетеля, не просили оправдать парня?
– Не выступала и не просила, хотя получила повестку в суд. Знаю, поступила плохо. Но что-то во мне сломалось. Я разлюбила Вадима в ту же минуту, когда он поверил в эту гадость. И вдруг поняла, что презираю русских мужиков, всех, поголовно. Способных ради удовлетворения похотливого самолюбия унижать незнакомую девушку, доводить ее до суицида. Чья любовь, самая искренняя и благонамеренная, превращается в пыль без борьбы, едва прикоснувшись к грязи жизни. Они оба, Алеша и Вадик, предали меня, поверив и не простив. Значит, готовы были предать, готовы были поверить в любой оговор. Может быть, в душе были рады унизить недоступную невесту.
Я вижу, Арсений Петрович, вы со мной не согласны. Не смею настаивать. У каждого свой опыт, каждый делает свои выводы.
Каждый решает сам, как ему поступать в опасной ситуации. Знаете, даже в уголовном кодексе есть такое понятие: необходимая самооборона. Это означает, что Иванов имеет право убить Сидорова на законном основании, и ничего ему за это не будет, если Сидоров вот-вот прикончит Иванова, или его семью, или беззащитного Петрова. Правильно я трактую?
– В принципе, правильно.
– Еще бы! Я это закон прочувствовала на собственной шкуре, когда сосновая дверь трещала под могучими ударами берцев бывшего десантника. Воображение рисовало привезенный любимым из армии обоюдоострый кортик, сантиметров двадцать в длину. Я сжимала в руке тупой кухонный нож, за спиной кричала семилетняя Адочка. И никак не могла решиться выпрыгнуть с нею из окна четвертого этажа. И все жалела его – милицию так и не вызвала. Вы думаете, после этого случая я не имела права на самооборону?
Арсений кивнул: безусловно. А Клавдия продолжала, распалялась все более, более. Как будто, опять искала оправдания своим поступкам в отзвучавшем нескладном прошлом. И опять, опять убеждалась: другого выхода не было.
– Мое самооборона заключалась в том, чтобы избавиться от этого парня (как объяснил следователь – контуженного, не всегда способного управлять своими поступками и эмоциями), раз и навсегда. Чтоб он понял – я рву с ним без жалости и сомнений. Что возврат к прошлому невозможен. Короткий срок заключения, который могли ему дать, был мне необходим, чтобы ноги унести подобру-поздорову.
Венера одобрила мои планы. Рассказала несколько историй, о которых судачили на рынке, когда вернувшиеся с войны парни колотили не только друзей-собутыльников, но даже мать и отца, невесту или жену. Иной раз, семейные побоища заканчивались инвалидностью беззащитных родных, случались даже убийства.
Конечно, контуженных жалко. До состояния нестабильного рассудка они дошли не по собственной воле. Взяли хороших советских мальчиков, воспитанных на заповедях социалистического гуманизма и нерушимой дружбы всех народов одной великой страны, и вдруг заставили, ни с того, ни с сего, стрелять друг в друга. Настоящими патронами. До смерти. Он в глаза тебе смотрит, молоко на губах не обсохло. Если ты его не убьешь, он прикончит тебя.
Неокрепшая психика пацанов дала глубокие трещины, произошло смещение понятий о возможных и невозможных поступках, о зле и добре. Крыша поехала, одним словом. У кого более, у кого менее. Не каждый способен управлять покосившейся крышей на гражданке, без жесткого контроля командиров. Кто-то угодил в дурдом, кто-то в тюрьму, кто-то запил или начал колоться.