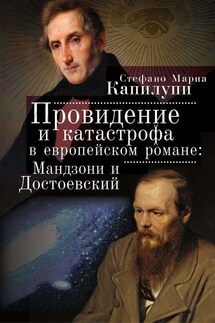Провидение и катастрофа в европейском романе. Мандзони и Достоевский - страница 27
Впрочем, рецензент рассказывает о недовольстве немецкой критики тем, что исторические эпизоды «Обрученных» превалируют над основным действием романа. Русский рецензент им возражает: «Пусть Ренцо и Лучия не настоящие герои, тем не менее скромная история их любви служит крепким звеном, прочно соединяющим между собой звенья рассказа, которому без того действительно не доставало бы ни целостности, ни единства» (Беседа, IX, 363).
Далее Никитенко отметила универсальность содержания романа: «космополитизм мыслей и чувства» (Беседа, XI, 360), авторский «интерес к крупным историческим явлениям и движениям масс», к «судьбе частных лиц», находящихся во взаимосвязи с глобальными событиями, от чего «весь роман получает характер широкой драмы». В общей оценке заслуг Мандзони, высказанной русским рецензентом, на наш взгляд, появляются новые обертоны, соответствующие достижениям русской прозы второй половины XIX века – И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Чтобы подтвердить это наблюдение, обратимся к двум фрагментам.
В первом из них определенно звучит терминология русской критики пост-натуральной школы:
К чему он (Мандзони – С. К.) не прикасается, то немедленно получает жизнь и рельефность. Причину этому, кроме сильного дарования, следует искать в искренности и прочности его религиозно-нравственных воззрений и в проистекающей из них определенности стремлений <…> Эта сознательность <…> сообщает его поэтическим вымыслам ту отчетливость концепции, которая приводит к созданию в высшей степени типических образов (Беседа, XI, 365; курсив мой – С. К.).
Другой отрывок касается оценки изображения внутренних борений в человеке, убедительности душевного переворота героя Безымённого: «Манцони можно сделать упрек за то, что он недостаточно мотивирует совершающийся в нем нравственный переворот. Автор, правда, намекает на снедавшее Неизвестного с некоторых пор недовольство своим образом жизни, но слишком смутно и все это событие имеет вид чуда» (Беседа, XI, 366; курсив мой – С. К.). В этом упреке в недостаточности психологизма отражается опыт чтения рецензентом современной русской прозы, в том числе Достоевского, на роман «Бедные люди» которого отцом С. Никитенко в свое время была написана рецензия.
Подробно пересказывая роман, рецензент делает выборку эпизодов. Рассмотрим, какие именно эпизоды выбраны, и попытаемся понять, произошла ли в них смысловая переакцентуация. В этой выборке и подходах к анализу содержания этих эпизодов отразились как интересы автора обзора, так и веяния времени[119]. Особенное место отведено двум эпизодам – встреча Безымённого с Лючией, повлекшая душевный переворот героя и картины чумы в Милане.
Таков пересказ Никитенко эпизода первой встречи Безымённого и Лючии, когда он неожиданно для себя смягчается перед кротостью девушки и говорит, что не причинит ей зла: «Но зачем же, начала Лучия голосом, еще правда дрожащим от страха, но которому негодование и отчаяние сообщили известную долю твердости, – зачем же заставляет меня страдать как в аду? Что я вам сделала?…» (Беседа, X, 137) Из приведенного примера следует заключать, что Лючия имеет силы и характер обличать поступок злодея. Между тем, как можно заметить, в оригинале в этом эпизоде девушка влияет на Безымённого не столько волей и обличающими словами, сколько истинным христианским смирением